Иван Бунин - Михаил Рощин Страница 33
Иван Бунин - Михаил Рощин читать онлайн бесплатно
Так начиналась другая.
Безумная громада мирового парохода, несясь сквозь ночь, вьюгу и вечный океан, двигалась к черту в пасть. «Пси и человецы» единились в свирепстве.
Говоря о Бунине, нельзя не поговорить о русской прозе вообще. Русский писатель — всегда звено могучей цепи: русские писатели слишком плотно, тесно стоят друг с другом, друг за другом, учась один у другого, следуя предшественникам-образцам, по ним выверяя себя, напрягаясь всей жизнью, чтобы быть не только не хуже, но изо всех возможностей стремясь сделать шаг вперед, дальше, смелее великих предшественников.
Мы знаем, одно из первых и лучших произведений в русской прозе — «Путешествие в Арзрум» А. С. Пушкина. Пушкинский лаконизм, точность, широта взгляда и вместе с тем всегда лиризм, передача своих душевных движений и мыслей, желание изобразить увиденное как можно ярче, выпуклее, красочнее. Бог русского писателя — правда. (Вспомним тут же Толстого, «Севастополь в мае»: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».) Эти слова могут быть золотом выбиты на фронтоне всего великого и великолепного здания русской литературы, — от Державина с Ломоносовым, от Пушкина — до Набокова и Солженицына. «Правда — всегда была, есть и будет прекрасна». Истинно!
Пушкин пишет в «Арзруме»: «…Прошло более двух часов. Дождь не переставал. Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки и с башлыка, напитанного дождем. Наконец холодная струя начала пробираться мне за галстук, и вскоре дождь промочил меня до последней нитки. Ночь была темная; казак ехал впереди, указывая дорогу. Мы стали подниматься на горы. Между тем дождь перестал и тучи рассеялись. До Гумров оставалось верст десять. Ветер, дуя на свободе, был так силен, что в четверть часа высушил меня совершенно. Я не думал избежать горячки. Наконец я достигнул Гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда поспешил я войти. Тут нашел я двенадцать казаков, спящих один возле другого. Мне дали место; я повалился на бурку, не чувствуя себя от усталости. В этот день проехал я 75 верст. Я заснул как убитый…
Казаки разбудили меня на заре. Первою моею мыслью было: не лежу ли я в лихорадке. Но чувствовал, что слава Богу бодр, здоров; не было следа не только болезни, но и усталости. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. „Что за гора?“ — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: „Это Арарат“. Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни — и врана и голубицу взлетающих, символы казни и примирения…»
Пушкинские простота, ясность, отсутствие каких-либо украшений или украшательств, почти документальность, — уж вполне современная! — навсегда, остались азбукой русской прозы, эталонами ее.
Но каждый шел по-своему, каждый в конце концов находил свой стиль, — писатель тем и занимается всю жизнь, что ищет и выражает себя, — немало соли приходится съесть, чтобы достичь этого.
Когда иные критики писали о Бунине как о подражателе Тургенева или Чехова, он возмущался: «Да я из Гоголя!.. Из Гоголя!..»
Из Гоголя, Иван Алексеевич?
Возьмем Гоголя. «Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивши черные, как уголь, тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска. Таковы очи у альбанки Аннунциаты. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола волос тяжеловесной косою вознеслась в два кольца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее. Как ни поворотит она сияющий снег своего лица — образ ее весь отпечатлелся в сердце. Станет ли профилем — благородством дивным дышит профиль, и мечется красота линий, каких не создавала кисть. Обратится ли затылком с подобранными кверху чудесными волосами, показав сверкающую позади шею и красоту не виданных землею плеч, — и там она чудо! Но чудеснее всего, когда глянет она очами прямо в очи, водрузивши хлад и замирание в сердце. Полный голос ее звенит, как медь. Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней венец созданья, от плеч до античной дышащей ноги и до последнего пальчика на ее ноге. Куда ни пойдет она — уже несет с собой картину: спешит ли ввечеру к фонтану с кованой медной вазой на голове, — вся проникается чудным согласием обнимающая ее окрестность: легче уходят вдаль чудесные линии альбанских гор, синее глубина римского неба, прямей летит вверх кипарис, и красавица южных дерев, римская пинна, тонее и чище рисуется на небе своею зонтикообразною, почти плывущею на воздухе верхушкою. И все: и самый фонтан, где уже столпились в кучу на мраморных ступенях, одна выше другой, альбанские горожанки, переговаривающиеся сильными серебряными голосами, пока поочередно бьет вода звонкой алмазной дугой в подставляемые медные чаны, и самый фонтан, и самая толпа — все, кажется, для нее, чтобы ярче показать торжествующую красоту, чтобы видно было, как она предводит всем, подобно как царица предводит за собою придворный чин свой…» (Н. Гоголь, «Рим»).
Из Гоголя? Что же, можно сказать, что и из Гоголя…
Но не забудем еще одного классика, которого особенно любил Бунин, к кому часто обращался и даже собирался писать книгу о нем: это Лермонтов. Лермонтов!.. Любимое дитя русской литературы, мальчик, за свои краткие 27 лет вписавший огромную главу в книгу нашей прозы.
Позволю одно личное воспоминание. Когда-то, в молодых своих скитаниях по Руси, по всему СССР, по любимой, душою избранной Пензенской земле, проехавши город Белинский (бывш. Чембар, вторая родина неистового Виссариона), очутился я в селе Тарханы, в знаменитом имении бабушки поэта Арсеньевой, где Лермонтов жил мальчиком и где провел несколько дней зимой 1841 года, уже перед последним и роковым его отъездом на Кавказ. В Тарханах и похоронен поэт. Дом-музей сохранялся в ту пору еще в пристойном виде, я обошел все комнаты, лестницы, бродил окрестностями, по аллеям, вдоль прудов, по деревне. Напитал Лермонтовым полное сердце. Там же пришлось мне и заночевать. Не забуду, как сильно ощущал я сам себя молодым Лермонтовым, понимал, кажется, про него все. И, конечно, захотел тут же написать об этом, — и написал: сначала небольшой рассказ, а потом, вооружась замечательной книгой Эммы Герштейн о судьбе Лермонтова, еще и целую пьесу «После дуэли», — о самых последних днях жизни поэта, о всем клубке хитросплетений вокруг него, его личности, его поэзии и прозе — там персонажами были все, начиная от проклятого фанфарона Мартынова до царя и царицы (Николай сильно не любил поэта, а царица была весьма благосклонна, что на пользу ему тоже не пошло).
Говорю и вспоминаю об этом потому, что полагаю: Бунин наверняка так же близко, родственно, ревниво воспринимал всегда Лермонтова.
Обратимся к замечательному мастеру русской прозы М. Ю. Лермонтову, для примера. «…Лизавета Николаевна велела горничной снять с себя чулки и башмаки и расшнуровать корсет, а сама, сев на постель, сбросила небрежно головной убор на туалет, черные волосы упали на плечи: но я не продолжаю описания: никому не интересно любоваться поблекшими прелестями, худощавой ножкой, жилистой шеею и сухими плечами, на которых обозначились красные рубцы от узкого платья, всякий, вероятно, на подобные вещи довольно насмотрелся. Лизавета Николаевна легла в постель, поставила возле себя на столик свечу и раскрыла ка-кой-то французский роман…» («Княгиня Литовская»).
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

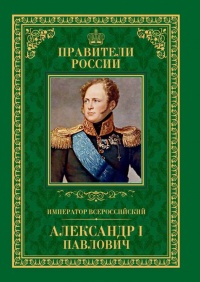



Комментарии