Русская красавица. Антология смерти - Ирина Потанина Страница 8
Русская красавица. Антология смерти - Ирина Потанина читать онлайн бесплатно
— Товарищ Мамочкин! — я должна перекричать и воду и старческую глухоту собеседника, поэтому ору, радуясь, что имею право тревожить сон остальных соседей. Пусть все видят, до чего наш старик дошёл! — Оставьте меня в покое! Насовсем!
Бесчувственно беру его за узловатые костяшки плеча, подталкиваю к выходу. Не переставая бормотать, сосед стоит под дверью. Вот, сволочь! Я так хотела спокойно почитать!
Объективный взгляд:
И ничего он не сволочь. Обычный больной. Его бы давно в больницу сдать, но соседи настолько привыкли к выходкам старика, что даже не считают их признаками слабоумия. Скорее — выпадами вредности и стариковской капризности. Скорее — попытками окончательно испортить всем нервы. Жалко его. Страшно жалко и ужасно противно, что она всерьёз на него злилась.
Вы уж, господа соседи, учитесь на чужих огрехах. Любите друг друга, родимые! Что есть мочи любите, сердешные! С такой силой любите, с какой она вас по понедельничным утрам ненавидела.
М-да… В последнее время с головой у товарища Мамочкина совсем плохо. Впрочем, не мудрено. Сейчас ему, должно быть, под девяносто.
Давным-давно, когда моя бабушка только получила здесь комнату, товарищ Мамочкин уже был стариком. Десятилетняя я рассматривала его с мистическим ужасом и патологическим любопытством. За последние двадцать лет внешность его почти не изменилась. Тот же скелет в кожаном покрове с чужого плеча. Это несоответствие размеров (кожа явно предназначалась для более крупного тела) покрывало товарища Мамочкина многочисленными складками. В детстве я глядела на них, как загипнотизированная, и всё пыталась понять, как же такое может висеть на обычном человеке. Взрослые ошибочно принимали моё пристальное внимание за привязанность к соседу. В награду за хорошее поведение меня обещали «пустить к товарищу Мамочкину». Я содрогалась от одной мысли об этом, тряслась от страха, но старалась вести себя хорошо, чтобы пойти. И шла! Товарищ Мамочкин — отчего-то все соседи звали его именно с этой коммунистической приставкой — был тогда вполне «в себе» и болел только физически. Он читал мне рассказы Джека Лондона и хвалился двумя портретами писателя в рамочках. Позже я поняла, что на одном из портретов был действительно именитый прозаик, а на втором — сам Мамочкин в молодости. Молодой Мамочкин, удивительно похожий на знаменитого писателя, совсем не походил на Мамочкина старого, и от этого делалось жутко. Болезнь и старость меняют человека до неузнаваемости…
Именно этими словами я начала статью о самоубийстве Джека Лондона. Написала в Рукописи, мол, не умри писатель в свои сорок, кто знает, что сделала бы с ним болезнь. «Может, стал бы страшным, как наш Мамочкин», — написала, — «Сошёл бы с ума, врывался бы к соседям в ванну и просил никому не рассказывать о вылазках на помойку». То есть, это я преувеличиваю. Про ванну, я, конечно, в Рукописи не писала, потому что не знала ещё, что Мамочкин дойдёт до такого маразма. Писала про всё остальное. А коллега Нинелька, которой я вскользь рассказала об идее подобной заметки, пришла в ужас.
— Ты что?! — всполошилась, — Кто такой Джек Лондон, и кто — Мамочкин? Великого писателя и вдруг со слабоумным стариком сравнила! О Джеке Лондоне уместно почтительно скорбеть, а ты глумишься… И потом, какое самоубийство? Несчастный случай чистой воды. Джек Лондон умер от уремической интоксикации!
— Ага, а листок с расчётами смертельной дозы морфия возле его кровати и два пустых пузырька от снотворного под оной — это случайное совпадение, — хитро соскалилась я в ответ, довольная произведенным эффектом.
Именно такого результата я от Рукописи и жду. Пусть взрываются, пусть спорят, пусть перепроверяют факты. Лишь бы затронуло, заставило память отвоевать у забвения главное: строки, личности, эпизоды… Отвоевать и сравнить с настоящим, аналогии выследить и вытравить. Иногда с ужасом понимаю, что, живи я, например, в начале века, в окружении тех самых, о ком сейчас в Рукописи дрожью исхожу, я бы их попросту не разглядела… Где-то в «отчаянном положении» металась бы между бессилием и долгом пред шестнадцатилетним сыном Цветаева, где-то Есенин лечился бы от неизлечимого, как бессмысленность бытия, алкоголизма, где-то вымаливал бы прощение у муз Блок, а я бы смотрела на это буднично. «Жизнь есть жизнь» — говорила бы, и снова уматывала в мечтания о героических личностях прошлых столетий. Потому что — вот маразм — прошлые столетия нам всегда видны яснее и ярче, чем настоящее. Для того и тревожу Рукописью, чтобы вспомнили, чтоб осознали, что и сейчас вокруг нас — такое же. Чтоб кинулись искать, спасать, вытягивать. Резко рванули б тонущую Дягилеву, оттаскали б эту тоску за косы — пусть не повадно будет так депрессировать… Высушили б, обогрели, рассказали о своей привязанности, потом отпустили бы: «Теперь сама решай!» Она, наверное, всё равно решения б не изменила, зато одной нелепой смертью стало бы меньше. Потому что, если б всё равно полезла, значит осознанно. Значит, не очередной абсурдный коллаж событий и глупость чёрствых современников надоумили, а нечто более значимое. Для того и пишу Рукопись, чтоб тех, кого можно, от курка взведённого отводили бы. Для того и пишу Рукопись, чтоб ценили до того, как потерять… В общем, без всякого злого умысла пишу, запомните, только из благих побуждений!
Впрочем, чушь это всё… Если честно, я и сама не знаю, зачем пишу. Может, чтобы прославиться? Смешно, конечно, но страшно хочется стать кем-нибудь значимым. Чтоб в электричках узнавали, чтоб бумажки в конторах выписывали без очереди, чтоб в компании появился — и не надо ничего доказывать, всем и так известно, что ты — достойная уважения звезда. И чтоб все мои бывшие завидовали будущим. Не по-злому, конечно, а так, немножечко. Впрочем, надеюсь, они и так завидуют.
Резко выгружаюсь из рассуждений практическим заданием. Хорошо, что разговор с Нинель вспомнила. Срочно нужно узнать, что такое «уремическая интоксикация». Не от жажды познаний — из тщеславия. Быть глупее Нинель мне непозволительно. Хоть высшее филологическое и не получала, должна, всё же, держаться на уровне.
— Никому, говорю, не рассказывай! — снова кричит товарищ Мамочкин из коридора. Решил, видимо, что я уже забыла. На этот раз обошлось без взломов. Прильнул губами к дверной щели и орёт.
Что ты будешь делать? И жалко старика и невыносимо с ним нянчиться… Ощущаю стыд: ну что я раздражаюсь против старика? Ответно припадаю губами к дверной щели, ёжусь от стреляющей в упор струйки холодного воздуха, набираю полную грудь и вежливо ору Мамочкину в самое горло:
— Не волнуйтесь, товарищ Мамочкин, никому ни словечка про вас не скажу! Не переживайте! Спать идите!
Послушно успокоившийся старик, шаркая, исчезает в глОтке нашего коммунального коридора.
Я снова погружаюсь в воду, размышления, и свою беспричинную, всё нарастающую тревогу. Подведём-ка итоги последних дней… Итак, ничего нового о Цветаевой я так и не узнала. А ведь на маму, собственно, была вся надежда. Она всю эту кашу заварила, ей бы и разгребать…
Когда-то, в период моего подросткового становления, я, как и положено, страшно скандалила с родителями. Тогда я уже жила здесь, то есть у бабушки, и отношения с маман уже переросли в ту безмерно болезненную любовь, когда люди не умеют жить ни вместе, ни порознь. Долго не видеть друг друга мы не могли: задыхались от кучи невысказанного, которой поделиться можно только друг с другом, потому как куча эта совсем личная и трудно объясняемая посторонним. Общаться часто тоже не могли: доводили друг друга до слёз малейшим невниманием и совершенно не могли разговаривать из-за этих вечных обоюдных упрёков. Отчётливо помню насыщенный запахами летний вечер того периода. Мы с маман сидим на крыльце веранды. Я демонстративно курю, она игнорирует эту демонстрацию и смотрит прямо перед собой, уязвлённая каким-то очередным моим трактатом о пользе жизни без родителей. Я продолжаю разглагольствовать, а маман перебивает резко. Полушёпотом, ничуть не стесняясь уже привычно влажных во время моих приездов глаз, улыбается одними губами и задумчиво произносит: «Знаешь, а вот Цветаева повесилась, когда сын сказал, что она ему не нужна». Что было дальше, не помню. Наверняка помирились, поплакали хором о такой дурацкой нашей неспособности общаться. А фраза запомнилась и всплыла в памяти, как только я взялась за Рукопись. К статье о смерти Цветаевой эта информация была бы очень интересна… Собственно, истекшие выходные были принесены в жертву решению этого вопроса. Я поехала к маман спрашивать и осталась ни с чем. Маман о том нашем разговоре категорически не помнит и про источник информации сказать ничего не может: «Может, я сама это придумала, а может, и вычитала где. Выбрось из головы. Ты же претендуешь на объективность — вот и руководствуйся только проверенными фактами». Я взвыла мысленно и дала себе очередной зарок на важные темы с домашними не разговаривать. Как про меня такое можно думать?! На объективность Рукописи я никогда не претендовала. Антология смерти не может быть объективной — как можно объективно писать о том, к чему неравнодушен?!
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


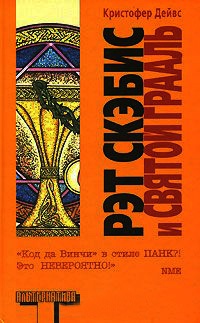


Комментарии