Утренняя звезда - Андре Шварц-Барт Страница 6
Утренняя звезда - Андре Шварц-Барт читать онлайн бесплатно
Посещения подгорецкого раввина вгоняли несчастного в холодный пот. Тот хотел, чтобы Хаим распростился со своим домишкой и занял его, раввина, место во главе общины. В те поры стали умножаться «ходоки Изгнания»: человек покидал отчий кров и уходил, стремясь приблизить явление Мессии, шел ночью и днем, без пищи и воды, не останавливаясь, чтобы Господь получил его жизнь в дар. Однажды ночью подгорецкий раввин вырядился розничным торговцем, пустился в путь и дошагал аж до деревни Ж., что в провинции Н.; там кто-то опознал его мертвое тело, лежавшее на обочине дороги. С того дня и во сне, и наяву Хаим имел перед глазами следующее видение: кто-то окликал его, он оборачивался на голос и получал топором прямо в лоб. Отказываясь от любых приношений, он продолжал чинить изорванную обувку, работая при свете свечи, поскольку наглухо завесил подвальное оконце. Впрочем, он быстро убедился, что его труды теперь ценятся дорого: каждая заплатка шла на вес золота, посредницей снова служила жена, притом, стремясь возместить моральный ущерб, она продолжала, как и раньше, кормить его только селедкой и вареной картошкой. Когда до него дошли слухи о смерти раввина, Хаим весь похолодел, вытянулся на своем тюфяке и не вставал до вечера, пока шум, доносившийся с улицы, не вынудил его подняться. Единственными терпимыми минутами было для него время окончания дня, когда он брал в руки скрипку и выходил из своего закута. Тут лихорадка отпускала его, руки и ноги вновь становились послушными, скрипка тоже, он поднимался со своего лежака, и былая радость затопляла его сердце.
А толпа снаружи внезапно смолкала. При первом взмахе смычка особое спокойствие снисходило на тела и души: грешники каялись, болящие отдыхали от перенесенных мук, из ртов эпилептиков уже не текла слюна, буйные безумцы переставали дрыгать руками и ногами, а в глотках одержимых умолкали их бесы, и те, покуда пела скрипка, имели мирный вид евреев, молящихся субботним вечером при свечах.
Но однажды весь поселок пересек фиакр, запряженный шестеркой лошадей, и остановился перед стареньким домиком Хаима; за ним следовали телеги, влекомые быками; некоторые были без крытого верха, и все видели сидящих в них юношей в белых, как простыни, одеяниях, занимающихся изучением Закона; в других, зачехленных, ехали заботливо предохраняемые от влаги мебель, багаж и домашняя челядь, достойные какого-нибудь важного сеньора. По трем откинутым ступенькам фиакра на землю сошел старец с львиной гривой, с буравящим взглядом под свирепо вздернутыми бровями, облаченный во все шелковое и с пальцами, унизанными перстнями; сопровождавшие его слуги распахнули перед ним двери жалкого домишки. То был рабби Элимелех Полоцкий, который у себя в Полоцке жил в настоящем замке и никогда не передвигался по земле без свиты верных ему молодых людей, изучающих Закон, а также без собственного повара, без мастера причесок, отвечающего за его парик, а еще без двух лакеев и кресла в чехле из дамасского бархата с полновесным золотым обрамлением, окутывающим все четыре его ножки. Поговаривали, что каждая его молитва достигает ступеней Трона. Добавляли, что дары, приносимые рабби Элимелеху, походят на жертвы самому Создателю. Шептали, что он был принцем в Израиле во времена царя Соломона, а десять веков спустя — эксилархом в царстве Вавилонском. И вот теперь он явился на землю в третий раз. Крики толпы предупредили Хаима, который все еще недвижно лежал на своем тюфяке, истекая потом, руки и ноги не повиновались ему, глаза скрывались под веками, отягощенными бременем стыда. Рабби Элимелех спокойно уселся за стол и попросил Хаима к нему присоединиться. Мыловар остался лежать: сил подняться у него не нашлось. Однако сопровождающие цадика люди без обиняков объявили ему: «Когда рабби Элимелех велит подняться, надо подняться». Хаим подошел к столу и уселся напротив цадика; тут ему показалось, будто он получил в лоб такой сильный и точный удар топором, какого никогда еще не бывало: прямо в середку, над носом, так что голова раскололась на две равные половины. Рабби Элимелех особым образом щелкнул пальцами, и на столе появилась бутылка водки, а один из слуг тотчас наполнил два стаканчика. Цадик попросил Хаима выпить с ним, а хасиды, предвидя его отказ, в один голос вскричали: «Когда рабби Элимелех велит пить, надо пить!» Единым духом опорожнив свой стаканчик, мужчина с львиной гривой вперил прямо в зрачки Хаима неотступно сверлящий взор. Так они просидели в молчании целый час. Сперва Хаиму показалось, что перед ним царь Соломон, блистающий тысячью огней, придававших его домишке блеск подлинного дворца. Потом на все это роскошество легла тень, теперь почудилось, что он сидит с подгорецким раввином, чей глаз сверкает, конечно, не так огненосно, но более нежно, как исполненное сладости осеннее небо, а под конец блеск совсем исчез: за столом перед ним сидел старый бродяга с помятым лицом, волосами, скатавшимися, словно немытая шерсть, с оголенными, посиневшими от холода руками, облаченный в рваный-прерваный широченный плащ. И этот последний сказал: «То, что ты видишь, — мое истинное лицо; за мои грехи Создатель заставил меня сиять нечистым светом, чтобы придать своим бедным покинутым евреям уверенности в Его славе и напомнить им, что они — царственные избранники».
В этот момент вновь ему предстало лицо рабби Элимелеха таким, как его видели весь этот час остальные присутствующие, и львиноглавый промолвил с мрачным удовлетворением: «Ты и я, мы оба хорошо поговорили: все сказали друг другу и все услышали, а теперь выпьем стаканчик за здоровье Мессии». И, произнеся такие слова, тотчас повелел Хаиму перебираться в жилище покойного подгорецкого раввина. Когда же Хаим снова принялся протестующе вскрикивать, хасиды тотчас непреклонно оборвали его: «Когда рабби Элимелех велит перебираться, надо перебираться».
Жилище раввина размещалось за синагогой; к нему примыкал обширный двор, огороженный в предвкушении целых туч паломников и нищих, коих в прежние времена не оказывалось в наличии. С первых дней там за Хаимом неотрывно, словно тень, следовал габай, взявший на себя роль эконома и церемониймейстера, он указывал бедняге, как должен по каждому поводу поступать служитель Господень, и тот чувствовал, что запутывается в сетях чужого вымысла, осужденный проживать не свою жизнь. На первый взгляд ученики требовали от него только одного: чтобы он никуда отсюда не уходил, а за трапезой оспаривали друг у друга обглоданные им косточки, в их воображении претворявшиеся в пищу духовную. Если он хранил молчание, это воспринимали с торжественным почтением, а стоило ему открыть рот, чтобы произнести, к примеру, что-либо вовсе незначительное, — тотчас одни ученики впадали в род экстаза, а другие — в унылую прострацию, ежели в произнесенных рабби речениях им не приоткрывался глубочайший смысл, пока сокрытый от их понимания. Что до сторонних посетителей, бродяг, нищих и прочих страждущих духовно и телесно, коих он каждый день выслушивал, эти приходили в восхищение от всего, даже от его способа завязывать шнурки на ботинках. Кое-кто из них появлялся на пороге с вопросом, для ответа на который требовалось глубокое знание Талмуда. Тогда бывший мыловар оборачивался с немым вопрошением к габаю, тот зычно указывал, каков должен быть ответ, а бедный цадик слово в слово повторял его, однако именно то, что громко произносилось им самим, тотчас приобретало ценность последней истины. Снаружи доносились непрестанные завывания одержимых бесом, в ожидании дозволения войти и исцелиться слонявшихся по двору меж прочих несчастных, истомленных великими недугами и немощами и тоже чаявших оздоровления. Сперва он еще отказывался произносить за габаем положенные изречения и производить необходимые жесты, не веря, что поможет всем тем паломникам, что простирали к нему руки с болью и надеждой. Но затем он, словно в печь огненную, с головой погрузился в их боль, в их муку и принялся буквально следовать указаниям габая: налагал ладонь на лбы страждущих, сулил им облегчение, словно сам сделался габаем Всевышнего. Повествования несчастных подчас оказывались столь трагичны и в некотором роде столь совершенны, что он не осмеливался, уподобившись самозваному Мессии, навязывать свою помощь, а потому с тяжким вздохом говорил, что в подобном случае единственно Создатель способен принести утешение, только к Нему одному обращенная молитва может помочь, — и паломники отправлялись вспять, исполненные умиротворенного восхищения и покоя, словно получив назад прежнюю неистерзанную душу. А некоторые странники стыдились своих бедствий, слишком тесно связанных с неудобопроизносимыми тайными склонностями и непростительными деяниями. Поэтому они, обнажив лоб, молча вставали перед Хаимом и ожидали, что он пронзит их насквозь взглядом — знаменитым всевидящим взглядом, дарованным ему пророком Илией, — и сам узнает все. Другие, напротив, укутывали лоб толстой повязкой и направляли рабби по ложному пути, уповая столь бесповоротной ложью освободиться от прежнего своего бытия, где не обнаруживалось ничего, кроме обмана и преступлений. Самые же упоительные чудеса случались по вечерам, когда Хаим бросался к своей скрипке. Кое-кто из паломников, услышав ее, уходил, утверждая, что само звучание инструмента открыло ему путь к тайным, дотоле неведомым глубинам собственной души и осветило там все чудесным сиянием. Другим же надобилось по нескольку вечеров подряд. Таковыми обыкновенно бывали одержимые, их недуг сопротивлялся дольше прочих: те, например, в кого вселился дух умершего, выли и богохульствовали голосом этого покойника, чья душа не желала покидать такого уютного до сей поры убежища. И все же по прошествии двух недель и они ложились ничком, лицом к земле, мертвец же покидал наконец живое тело, оставляя страдальца мирно спящим. Другие одержимые бесами при звуках, производимых смычком праведника, вели себя совершенно особенным образом: целые недели они судорожно корчились в сгущающемся вечернем сумраке, с похожими на жабьи морды, искореженными болью лицами, пока изо рта у них не вырывался язычок адского пламени и они не успокаивались, вытянувшись на земле и улыбаясь совершенно по-детски. Закончив музицировать, Хаим входил в жилые комнаты, смотрел, как его супруга зажигала свечи в четырех серебряных канделябрах по углам большого обеденного стола, накрытого скатертями с изящной вышивкой на сюжеты из святых книг. И все освещалось, лицо женщины радостно вспыхивало при свете тяжелых серебряных подсвечников, а Хаим с мягкой грустью мысленно обращал к ней такие слова: «Ныне сердце твое озаряется пламенем этих канделябров, а мое погружается во мрак».
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


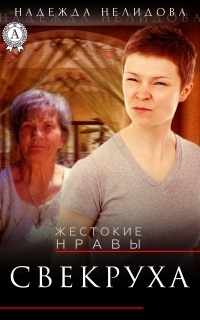
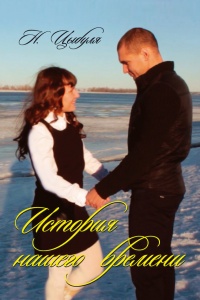
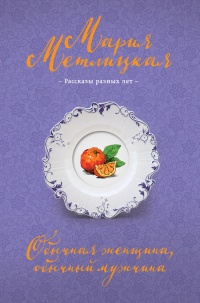
Комментарии