Причуды среднего возраста - Франсуа Нурисье Страница 32
Причуды среднего возраста - Франсуа Нурисье читать онлайн бесплатно
…Ты сразу же позволишь себе вновь поддаться лирическому настроению. Ты галопом понесешься к своей большой любви, что выпала тебе в сорок восемь лет. Это все радужный обман: сладость ее тела, ее дерзость, твоя смелость и твои сновидения — а нутро-то с гнильцой, Казанова. Твой организм поражен опухолью, его облюбовала целая колония паразитов. В твоем автомобиле едет труп. Правда, едет очень медленно. Твоя скорость еле-еле приближается к скорости пешехода, ведь — ну сам посмотри — в компании с другими такими же мучениками, утирающими пот с физиономий, вы еще даже не добрались до ворот де ла Плэн — какое красивое название, далекое, вызывающее ностальгию, благородное! — а уже загорелась неоновая реклама шин «Энглеберт» и бензина «Тотал»: это жизнь, дружище. Вечер и жизнь.
Среди всех этих морд и рыл, среди толпы сонных и злых людей вдруг луч света: пара влюбленных. Они обнимаются в своем маленьком сером «рено», ни на кого не обращая внимания, и кажутся единственными, кто воспринимает стояние в пробке как дарованные им свыше минуты уединения и радости. Временами, по воле случая и прихоти движения автомобильных рядов, их машина немного обгоняет машину Бенуа, и тогда он видит их со спины, видит их склоненные друг к другу затылки, видит руку девушки на плече ее спутника. Или же они вдруг оказываются на одном уровне с Бенуа, бок о бок с ним в какой-то странной близости, а поскольку их лица так и светятся радостью, то и его лицо озаряется ответной улыбкой, ведь они так дружелюбно смотрят на него. Их возраст. Бенуа откидывается на спинку сиденья, внезапно почувствовав, что напряжение почти отпустило его. Когда-нибудь придет день, когда он покончит наконец со всеми этими терзаниями. Когда он будет смотреть на целующихся молодых людей, не исходя при этом желчью. Это будет всего лишь красивый спектакль, демонстрация животной гибкости, нежности, и все это будет уже в другом измерении. Он больше не станет заниматься этими смешными подсчетами: годы, плюс желание, плюс обещания, плюс дети, плюс накопившаяся усталость — и что же в сумме? Зная цвет глаз Мари и силу тяжести прожитой на две трети жизни, угадайте возраст капитана. Так каков же на самом деле возраст капитана? Возраст любовника? Я — пас. А сколько лет влюбленной девушке? Той, которую он видит в соседней машине — летнее платьице, открытые загорелые плечи, — еще нет и двадцати. У ее спутника по лбу разметалась светлая челка, рот дерзко изогнут, Бенуа видит его в профиль, видит его тонкие губы — он что-то говорит сейчас своей девушке так, как это делал в Трувиле бежевый парень, — его губы в волосах Мари, они касались ее, ласкали словами, смысл которых не имел особого значения. Как же тебе хотелось повторить их мне! Ты так охотно рассказываешь мне о нем. Тебя никогда это не смущало. Новоиспеченные любовники всегда бравируют друг перед другом своими воспоминаниями, соревнуются — кто кого. Эта нечистоплотность с привкусом непристойности должна подливать масла в огонь. Я пытаюсь избежать разговоров на эту тему. Я не хочу слышать и знать, что ты порхаешь от меня к нему, от него к другим в этой беспорядочной череде имен и мест, череде спален, кабриолетов, поездок в Италию… Если ты заводишь этот разговор, я слушаю тебя (а как же иначе? Мы же цивилизованные люди) с тем недовольным видом, силу которого я знаю, но тебя он не останавливает. Инстинкт подсказывает тебе, что твои откровения не только изнуряют меня, но и воспламеняют. Ты находишь слова, действующие на мужчин словно удар кнута. Где ты освоила эту науку? Я поклялся себе не поддаваться искушению того сладострастного падения, в котором соучаствуют мужчина и женщина, когда чувствуют, что их захлестывает страсть. Рядом с тобой я не могу этому противиться. Я смотрю на тебя, слушаю тебя: ты женщина новой расы. Ты считаешь, что мои старые преступления не подлежат разбирательству из-за срока давности. Четверть века! Мы не станем устраивать никаких судилищ. Тебя тоже следует считать невиновной. Ты рассказываешь о простынях, на которых занималась с кем-то любовью, о тех премудростях, которым тебя обучили. Видимо, твоя память — это память ангела, воспоминания соскальзывают с нее, как с гуся стекает вода.
Как, черт побери, они с этим справляются? Как могут вынести это, как могут выглядеть такими веселыми? Часть проблемы, бесспорно, кроется в физиологии. Вот, например, лето. У одних людей кожа на солнце покрывается ровным загаром, а у других — волдырями. Из одних от старости сыпется песок, а другие приобретают благородную патину. И здесь, по-видимому, ничего не изменить. То же самое и в постели, где кое-какие способности зависят лишь от щедрости природы. В остальном же… Почему я не смог здесь прижиться? Земля, земля, на которой я родился и на которой живут мои соплеменники, воспринимается мною как какая-то Африка. Я притягиваю здесь к себе самые немыслимые бациллы. И нравы здесь варварские. И обычаи непостижимые. Я мог бы поехать в Югославию, мог бы обставить свой дом на улице Суре мебелью в стиле Людовика XVI. Мог бы дожить до глубоких морщин. С самого утра я кручусь вокруг этого слова: душа, я говорю ДУША за неимением другого, более подходящего выражения, и мы с вами примерно понимаем, что оно означает. Так вот, я мог бы закалить свою душу, которую мне так часто бередят. Общественные заботы, мысли, от которых голова идет кругом. Вы только представьте себе, что вся моя вялость и апатия стали бы перерастать в гнев или рядиться в благочестивые словеса. Тогда те мучения, что доставляет мне моя жизнь, немедленно обрели бы смысл и благородный налет. Мне осталось бы вписать то или иное недостающее слово, и кроссворд сразу же был бы разгадан. Внеся однажды ясность в свои мысли, я смог бы сделать правильные выводы. Я поделил бы мир на добрых и злых людей. Ничто так не помогает в жизни, как возмущение. Вот они, люди, их жизнь организована самым что ни на есть гармоничным образом: в ней есть место религии, но не закостенелой, а открытой для дискуссий и реформ; есть общественное устройство, которое мы принимаем лишь при условии, что сможем подвергнуть его революционной перестройке; есть выставки картин, свадьба, педагогика; есть даже деньги в достаточном количестве. Не жизнь, а сказка. Я далек от мысли высмеивать ее. Я восхищаюсь. Завидую. Пусть мне дадут всего лишь малую толику изобретательности, и я изготовлю себе аппарат для прекрасной жизни по своим собственным меркам. Нелюбовь к подобного рода занятиям свидетельствует о дурном вкусе. Я проезжаю мимо собственного магазина и не захожу в него. Да, это очень плохо, тут нечем хвастаться, но это именно ТО, что я хотел бы донести до вас: перед всеми этими витринами, напичканными товарами, я теряю последние силы, меня тошнит от них, просто выворачивает наизнанку. Те же чувства я испытываю и здесь, в этой автомобильной пробке (а как может быть по-другому, здесь все понимают и разделяют мои чувства), они же одолевают меня, когда я вдыхаю винный перегар, исходящий от Молисье, вижу амбиции Зебера, благородные движения души моих сыновей и гордость Элен, слушаю рассуждения Старика по поводу «инвестиционной политики». Всюду одно и то же, словно все, что составляет нашу жизнь: земные и возвышенные чувства, тяга к прекрасному, работа, любовь, светские развлечения — все это не может больше вызывать во мне ничего, кроме этого спазма, этого судорожного смешка и отвращения. Я блуждаю в этой пустоте, которую создал внутри себя, и никак не могу поверить в ее реальность. Где-то лопнула маленькая пружинка. Истощился запас сил. Но всему этому должно быть какое-то физическое, конкретное объяснение, должно быть что-то, что поддается взвешиванию и измерению, а иначе это невозможно понять. И я так вот блуждаю внутри себя и ищу. Ищу разлом. Щель, через которую все утекло. У этой болезни должно быть название. Она должна быть уже кем-то описана, исследована, возможно, даже найден способ ее излечения. Этот недуг столь же очевиден, как если бы он поразил мое тело, мои кости, мои глаза: как катаракта, потому что я больше ничего не вижу, как кахексия, как полное истощение организма, ибо мое нутро погибает от голода и жажды. Иногда по вечерам я осмеливаюсь заговорить с Элен — во всяком случае, осмеливался, но сейчас молчание разделило нас. А тогда я находил какие-то слова. Немой вдруг обнаруживал, что в его распоряжении огромное разнообразие средств и оттенков, чтобы объяснить необъяснимое, объяснить эту образовавшуюся в нем пустоту, эту усталость от всего на свете, которая, впрочем, не означает полного отречения, потому что он все еще барахтается, пытается окунуться в молодость Мари, поддавшись порыву, словно мощное течение могло вынести его, не дав захлебнуться. Но утонуть в пучине удовольствия — все равно утонуть, потерять почву под ногами, зайтись в крике, который глушит вода, отдаться ее цепким объятиям, тягучим, зеленым, убаюкивающим объятиям.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
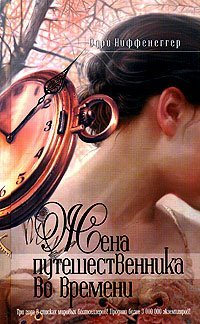

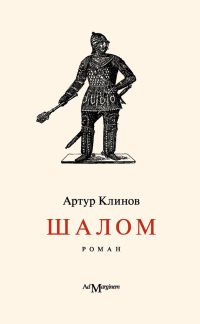
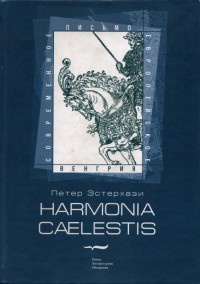
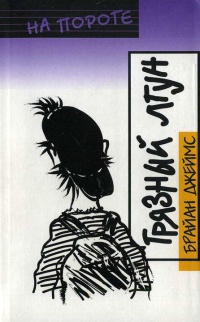
Комментарии