22:04 - Бен Лернер Страница 23
22:04 - Бен Лернер читать онлайн бесплатно
И все же, хотя я ругал кооператив постоянно и хотя по кулинарной части я, мягко говоря, слаб, я не считал кооператив морально несостоятельной организацией. Мне нравилось, что деньги, которые я трачу на еду и хозяйственные принадлежности, идут туда, где используется совместный и зримый труд, где, как правило, не встретишь товаров, производимых явно зловредными конгломератами, где продукты более или менее свободны от ядов. Кооператив участвовал в работе благотворительной столовой. Когда поблизости сгорел приют для бездомных, мы (на инструктаже учат, говоря о кооперативе, употреблять это местоимение) пожертвовали деньги на восстановление.
Каждый четвертый четверг вечером я занимался в кооперативе «предпродажной подготовкой пищевых продуктов»: в подвальном помещении вместе с другими членами моей «команды» упаковывал, взвешивал и снабжал этикетками сухие продукты и оливки, а еще мы резали и заворачивали разнообразные сыры, а потом наклеивали этикетки – правда, сыров я старался избегать, потому что они требовали некоего минимума сноровки. В целом работа была легкая. Коробки с нефасованным товаром лежали в подвале на полках. Если наверху были нужны сушеные манго, ты находил десятифунтовую коробку, вскрывал ее ножом, расфасовывал кусочки плодов по маленьким прозрачным пакетам, завязывал пакеты и взвешивал на весах, которые выдавали наклейку с ценой. После этого ты нес продукты наверх и пополнял ими полки в торговом зале. Нужно было иметь на себе фартук, бандану и пластиковые перчатки. Открытые сандалии запрещались, но я их и без того не носил. В большинстве своем люди здесь, к добру или к худу, были общительны и разговорчивы, как та мама, что рассуждала сейчас про школу; мои товарищи считали, что так смена проходит быстрее, мне же, наоборот, часто казалось, что болтовня замедляет ход времени.
– Там просто-напросто была неподходящая учебная среда для Лукаса. К учителям претензий нет, они работают на совесть, и в принципе мы за государственную школу, но многие дети там совершенно неуправляемы.
Мужчина, фасовавший рядом с ней ромашковый чай, счел себя обязанным сказать:
– Верно.
– Дети, конечно, не виноваты. Множество из них происходят из таких семей…
Помогавшая мне паковать манго женщина по имени Нур, с которой я подружился, слегка напряглась в ожидании оскорбительной характеристики.
– …в общем, они весь день пьют газированные напитки и едят нездоровую пищу. Еще бы они могли сосредоточиться.
– Верно, – подтвердил мужчина, похоже испытав облегчение от того, что ее фраза не приняла совсем уж агрессивный оборот.
– Они постоянно под каким-то химическим кайфом. Их пища полна бог знает каких гормонов. Как можно от них ждать, чтобы они учились или хотя бы уважали детей, которые пытаются учиться?
– Никак нельзя.
К таким обменам репликами (хотя обменом в полном смысле слова это трудно назвать) я уже тут привык: для выражения расовой или классовой неприязни используется новый биополитический словарь. Вместо того чтобы объявлять чернокожих и смуглокожих биологически неполноценными, говорят, что на них – по причинам, вызывающим сочувствие, по причинам, в которых нет их собственной вины, – отрицательно сказывается то, что они едят и пьют; все эти искусственные красители, так сказать, чернят их изнутри. Твой собственный ребенок, никогда не берущий в рот газированных напитков с высоким содержанием фруктозы, с фосфорной кислотой и красителем E150d, – более тонкий инструмент, чем они, он умнее, чище, он не испытывает тяги к насилию. Такой ход мысли позволяет оправдывать с помощью радикальной лексики шестидесятых (экологическая настороженность, антикорпоративизм) воспроизводство социального неравенства. Он позволяет изображать заботу о своем генетическом материале – кормление Лукаса соевым творогом последнего образца – как альтруизм: это хорошо не только для Лукаса, это хорошо для всей планеты. Но от тех, кто по невежеству или из безрассудства позволил пищеварительным трактам своих детей познакомиться с зажаренной во фритюре, механически обработанной курятиной, от тех, кому случилось в Бруклине, где столько всего понамешано, быть слишком чернокожими или слишком латиноамериканцами, Лукаса надо защитить любой ценой.
Из неодобрительной задумчивости меня вывела Нур:
– Простите, я забыла, у вас есть дети?
– Нет.
Нур наполняла сушеными манго пакеты, я их завязывал, взвешивал и налеплял этикетки.
– Для меня, – сказала она, – нью-йоркская школьная система – темный лес.
Если у нас с Алекс кто-нибудь родится, удастся ли ей – или нам вдвоем – найти тропку в этом лесу? Уверен ли я, что не соблазнюсь, если у меня будет достаточно денег на частную школу? Мне захотелось сменить тему.
– Вы ели в школьные годы нездоровую пищу?
– Дома никогда, а с подружками – постоянно.
– А что вы ели дома?
В прошлый раз Нур рассказала мне, что она из Бостона, а теперь учится в Нью-Йорке в магистратуре.
– Ливанские блюда. Готовил все время мой папа.
– Он родом из Ливана?
– Из Бейрута. Уехал от гражданской войны.
– А мама?
Я понял, что уже некоторое время ввожу в электрические весы не тот код и наклеиваю неправильные этикетки. Пришлось переделывать.
– Она родилась в Бостоне. Мои предки с маминой стороны – российские евреи, но ее родителей я никогда не видела.
– Моя девушка – ливанка по матери, – почему-то сказал я – может быть, чтобы отдалиться мысленно от Алекс и всего, что связано с размножением. Мать Алины тоже из Бейрута, но можно ли назвать Алину моей девушкой? – А у вас много родственников в Ливане?
Она замялась:
– Это долгая история. Тут все довольно запутанно.
– У нас масса времени. Еще два с лишним часа тут торчать! – воскликнул я в шутливом отчаянии, но у Нур был огорченный или, по крайней мере, серьезный вид, и я быстро перешел на другое: – В моей семье никто не умел готовить, поэтому…
Но внезапно она начала говорить; мы не смотрели друг на друга, у обоих глаза были заняты работой. Она говорила тихо, так что остальным, обсуждавшим сейчас достоинства квакерской педагогики, слышно не было.
Мой папа умер три года назад от сердечного приступа, а его родня большей частью по-прежнему живет в Бейруте, рассказывала Нур, правда, не совсем этими словами. Я всегда считала себя связанной с ними, хотя почти не видела их, пока росла. У папы было сильное чувство принадлежности к своему народу, и я тоже ощущала себя ливанкой. Родители старались, чтобы я свободно владела двумя языками. Он был мусульманин очень светского толка с изрядным марксистским уклоном, его мать была христианка, но в Соединенных Штатах, в Бостоне, он, возможно, в знак протеста против расизма и невежества стал ходить в мечеть – хотя это была не столько даже мечеть, сколько культурный центр. Пока я росла, я очень часто там бывала, и у меня стало развиваться чувство своего отличия от большинства знакомых детей. В старших классах, а потом в колледже я активно занималась политической агитацией под ближневосточным углом зрения, в Бостонском университете специализировалась по Ближнему Востоку. Там я вступила в Арабскую студенческую ассоциацию, правда, иногда у меня возникали сложности, потому что мама из еврейской семьи, хоть и нисколько не религиозной; с мамой у меня тоже все было не очень просто, она видела, что меня интересуют в основном папины корни, что я гораздо больше отождествляю себя с ним, чем с ней. Как бы то ни было, примерно через полгода после папиной смерти мама начала встречаться – она именно это слово употребила: встречаться — со своим старым другом по имени Стивен, физиком из Массачусетского технологического института, я с детства его немножко знала, потому что мы с братом изредка играли с его детьми; с тех пор он развелся. Мама сообщила нам с братом про Стивена однажды вечером за ужином, сказала – она знает, что нам нелегко будет с этим примириться, но надеется на наше понимание. Мы сказали, что понимаем, хотя оба сидели обалдевшие, брат был разъярен тем, что все произошло так скоро, – правда, я думаю, он никому не показал свою ярость, кроме меня.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
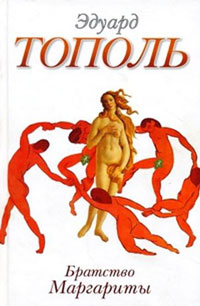


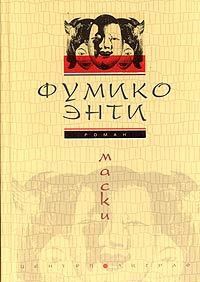

Комментарии