Гладь озера в пасмурной мгле - Дина Рубина Страница 12
Гладь озера в пасмурной мгле - Дина Рубина читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
…Чаще открывал сам Стасик, хотя Вера заранее доставала из кармана ключ, но Стасик умудрялся слышать ее шаги еще на первом этаже — слух у него был поразительный, собачий, — и чуть ли не мгновенно оказывался у дверей на своих костылях.
— Наконец-то! Где ты бродишь? Не переобувайся, мы уходим. В «Публичке» лекция о западно-европейской музыке конца XIX века. Элла заходила, она сегодня играет.
И они лихорадочно собирались; разыскивалась в недрах шифоньера чистая рубашка Стасика, молниеносно отчищался щеткой пиджак, завязывался галстук («Верка, галстук к моей физиономии, что фрески Рафаэля в конюшне совхоза „Серп и молот“) и быстро — как ковбойский конь копытами — перестукивали ступени костыли.
Иногда в дверях она находила записку: «Вера! Живо в Дом знаний! Сегодня выступает Юлий Ким!»
Вблизи Стасика жизнь была толкова, горяча и наполнена оздоровляющим смыслом.
Впрочем, все это она сформулировала для себя потом, много лет спустя, и тоже в неожиданном, оздоровляющем месте: в Карловых Варах, куда пригласил ее погостевать на пустой вилле владелец одной из пражских галерей, где году в восемьдесят девятом проходила ее выставка. И вот там, сидя рано утром в центральном павильоне, вблизи самого мощного источника, бьющего гигантской струей в потолок и распространяющего вокруг себя волны горячего озона, она вновь думала о Стасике, в который раз ощущая его присутствие так близко, что не хотелось уходить, словно, просидев тут еще с полчаса, можно было дождаться его наконец, спустя столько лет…
…Впоследствии Вера удивилась бы, если б кто-то назвал Стасика калекой. А в ту вялую длинную осень, когда она осталась одна, жила тихо и медленно, вровень с вечерними сумерками, — она не удивилась. Раз на костылях — значит, калека. Вообще-то ей и в голову не приходило сдать комнату — все-таки на фабрике получалось рублей шестьдесят в месяц, деньги хорошие, особенно для первых заработков шестнадцатилетней девчонки. Одной хватало.
А тут как-то вечером постучалась соседка Фая, — смуглая и верткая, как угорь, — втолкнула Веру в прихожую, сама вошла, оглянувшись, притворила дверь и заговорила быстрым шепотом:
— Верка, жизнь-та какая пошла! Дороговизны-та какая! Сегодня на базаре пятнадцать рублей оставила, а спроси, что купила?
— Денег, что ли, одолжить? — спросила Вера, ничего не понимая.
— При чем одолжить! — обиделась Фая. — Одолжить не к тебе пойду, ты сама бедная. Я с хорошим делом: на квартиру человека не пустишь?
— А почему шепотом? — недоумевая, спросила Вера.
— Ты дура совсем, да? Зачем разглашать? Чтобы эта сука Когтева из шестой квартиры бумаги в ЖЭК писала? Скажешь — брат из Янгиюля приехал… Да ты не бойся, он калека, на костылях. Приставать не будет.
— А зачем мне все это?
Месяца три уже Вера жила одна, боясь поверить, что этот покой и простор — надолго, на целых пять лет; что мать не заявится, как обычно, после своих коммерческих экспедиций — с привычными угрозами, бранью, погоняловкой и мордобоем…
Вечерами она часто пропускала занятия в школе, могла часами лежать на диване, не зажигая света, перебирая лица, увиденные за день, за неделю, за эту осень. Размышлять о матери, о дяде Мише.
Сдать кому бы то ни было комнату, значило — впустить неизвестного человека в медленные текучие вечера при свете уличного фонаря за окном; значило добровольно разрушить возведенные вокруг себя высокие светлые стены.
Она и потом будет так же вынашивать картины — сначала бесцельно кружа по дому, машинально касаясь рукой предметов, пробуя поверхность на ощупь, словно бы знакомясь с неведомым веществом мира, незнакомым составом глины… Наконец ложилась, заваливалась, как медведь в берлогу, закукливалась, как бабочка в коконе. Иногда, перед началом большой работы, лежала так, замерев, без еды, целые сутки… Как бы дремала… Если муж спрашивал ее: «Ты спишь?», — отвечала, не шевелясь, не открывая глаз: «Нет… работаю…»
А наутро взлетала — легкая, еще больше похудевшая, — принималась натягивать холст на подрамник.
— А двадцать рублей тебе валяются каждый месяц? — спросила Фая.
— На фиг, — кратко ответила девочка.
— Слушай, больного человека совсем не жалко, да? На костылях, калека… Из хорошей семьи человек, моей подруги племянник. Думаешь, безродный какой-нибудь? У них с отцом в Янгиюле домина в шесть комнат. А отец — ветеринар такой, что к нему со всех совхозов подарки возят на грузовиках. Грузовик дынь! — клянусь, сама видала, Цой послал, председатель колхоза «Политотдел». Герман Алексеич, он немец высланный, вдовец, культурный человек. И сын такой хороший мальчик, да вот, беда с ногами, с детства. Ему трудно в институт с Янгиюля добираться. Каждый день туда-сюда автобус, на костылях, а? Да еще эту возить — ящик этот, с красками…
— Этюдник? — встрепенулась Вера. — Он художник?
— Ну, а я что тебе говорю! — обрадовалась та. По всей видимости, она вовсе не рассчитывала на этот козырь, и за козырь его не держала, хоть и знала, что Вера рисует: карандашный набросок — вихрастая головка ее младшенького, Рашидика, — красовался у Фаи в кухне. — Он и тебя научит что-нибудь, а?
7
Художник-калека оказался здоровенным, былинно-русой красоты парнем, добрым молодцем из сказки, только роль борзого коня исполняли костыли — обжитые, обихоженные, с перемычками для ухвата, отполироваными его мощными ладонями до блеска.
Стасик переболел полиомиелитом в детстве, так что отсутствие ног, вернее бестолковое их присутствие, его нисколько не смущало.
Он сразу заполнил всю квартиру — своим голосом, прокуренным шершавым баритоном, своими ящиками с краской, углем, сангиной; костылями, которыми владел виртуозно, и поэтому мог делать все без посторонней помощи, да так ловко, что куда там Вере. Впрочем, по истоптанному домашнему маршруту он способен был проковылять и так, в подмогу себе привлекая то спинку стула, то косяк двери, то близкую стенку.
Костыли же оказались совершенно одушевленными, и время от времени Вера натыкалась в разных углах квартиры на эту легкую танцевальную парочку, словно за ночь их туда приводило любопытство.
Она во все глаза глядела на этюдник, свою мечту, — до этого видела такой, дорогущий, в художественном салоне, — на самого Стасика, диковинного человека, которому все было любопытно, все нужно, и все — в охотку.
Он, как и его отец, принадлежал к типу людей, которые дружат с людьми, вещами, живыми существами, погодой и всем, что произрастает вокруг. Любое действие у него превращалось в действо. Перестановка предметов на кухонном столе — в композицию. Стасик знал рецепты самых неожиданных блюд, вроде татарского чак-чака, варил лучший в мире кофе (действительно лучший; даже в Стамбуле, даже на Крите, где ее водили в специальные места — пробовать особенный кофе, она не пила лучшего, чем тот, что варил Стасик на газовой конфорке в их кухне); он по-особому заваривал зеленый чай, колдуя над нужной температурой воды, — при этом казалось, что старый чайник с надбитым носиком таинственным образом влюблен в его руки и тянется к ним, что пиала сама просится в его большую и удобную ладонь… Он знал, как отчистить старую замшу, высветлить темное серебро, отстирать любое пятно с материи; когда Вера заболевала, он за два дня поднимал ее на ноги, заставляя дышать над кастрюлей с кипящим отваром каких-то незапоминаемых трав, безжалостно жестко растирая ей спину (боже, какая ты худющая!) остро пахнущими и больно жалящими мазями… Сам не болел никогда: будто детская страшная болезнь, отобравшая у него ноги, исчерпала отпущенные на его жизнь недомогания.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


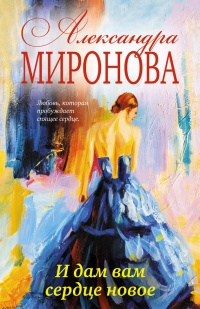


Комментарии