Глазами клоуна - Генрих Белль Страница 5
Глазами клоуна - Генрих Белль читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Я толкнул ногой стул, который стоял возле кровати, он не упал, тогда я пнул его еще раз. Наконец стул повалился и разбил вдребезги стекло на ночном столике... Генриэтта в синей шляпке с рюкзаком за спиной. Она так и не вернулась, и мы по сей день не знаем, где она похоронена. Когда война кончилась, к нам пришел какой-то человек и сообщил, что она «убита под Леверкузеном».
Эта неусыпная забота о «священной немецкой земле» кажется мне особенно смешной, когда я вспоминаю, что изрядная доля акций компаний по добыче бурого угля находится в руках нашей семьи... Семь десятков лет два поколения Шниров наживаются на том, что кромсают «священную немецкую землю», и ее долготерпению нет конца: деревни, леса и замки падают под натиском землечерпалок, как стены Иерихона...
Только несколько дней спустя я узнал, кому следует выдать патент за термин «пархатые янки» — Герберту Калику, четырнадцатилетнему мальчишке, моему «фюреру» в юнгфольке. Мать великодушно предоставила в его полное распоряжение наш парк, где нас обучали бросать противотанковые гранаты. Мой брат Лео — восьми лет от роду — также занимался, с нами; я видел, как он вышагивал по теннисному корту с-учебной гранатой на плече; лицо у него было такое важное, какое бывает только у маленьких детей. Я остановил его и сказал:
— Что ты здесь делаешь?
Он ответил с убийственной серьезностью:
— Готовлюсь вступить в «вервольфы», а ты разве нет?
— Конечно, — сказал я и пошел с ним через теннисные корты к тиру, где Герберт Калик рассказывал в это время о мальчике, которого уже в десять лет наградили Железным крестом первой степени; этот мальчик из далекой Силезии уничтожил три русских танка ручными гранатами. Один из слушателей спросил, как звали героя, и тут у меня вырвалось:
— Рюбецаль [1].
Герберт Калик пожелтел и рявкнул:
— Грязный пораженец.
Я нагнулся и бросил ему в лицо пригоршню песка. Тогда все мальчишки кинулись на меня, только Лео сохранял нейтралитет, он плакал, но не заступился за меня; с перепугу я крикнул Герберту:
— Нацистская свинья!
Я прочел эти слова на шлагбауме у железнодорожного переезда. Я не совсем точно понимал, что они означают, но все же чувствовал, что сказал их к месту. Герберт Калик тут же прекратил драку и повел себя как должностное лицо: он арестовал меня и запер в тир, где валялись мишени и указки, потом он созвал моих родителей, учителя Брюля и еще одного человека — представителя нацистской партии. Я ревел от злости, Топтал ногами мишени и, не умолкая ни на минуту, ругал «нацистскими свиньями» мальчишек, которые, стоя за дверью, сторожили меня. Через час меня поволокли в дом на допрос. Учитель Брюль прямо-таки рвался в бой. Он беспрестанно повторял:
— Изничтожить огнем и мечом, огнем и мечом изничтожить.
Я до сих пор не знаю, что он под этим подразумевал — мое физическое уничтожение или, так сказать, моральное. Как-нибудь напишу ему письмо на адрес педагогической академии и попрошу разъяснений по этому вопросу — в интересах исторической истины. Нацист Левених, исполнявший обязанности ортсгруппенлейтера, держался весьма разумно: он все время напоминал:
— Учтите, что мальчику еще не исполнилось одиннадцати.
Он настолько успокаивающе подействовал на меня, что я даже ответил на его вопрос. Он спросил, откуда я узнал это чудовищное ругательство.
— Прочел на шлагбауме на Аннабергерштрассе.
— А может, тебя кто-нибудь подучил? — продолжал он. — Я хочу сказать, не слышал ли ты его от кого-нибудь?
— Нет, — ответил я.
— Мальчик сам не знает, что он говорит, — заметил отец и положил мне руку на плечо.
Брюль бросил на отца сердитый взгляд, а потом с испугом оглянулся на Герберта Калика. Вероятно, жест отца был расценен как слишком явное выражение симпатии ко мне. Мать, всхлипывая, произнесла своим дурацким, сладким голосом:
— Он сам не ведает, что творит; нет, не ведает, иначе мне пришлось бы от него отречься.
— Ну и отрекайся, пожалуйста, — сказал я.
Вся эта сцена разыгралась в нашей громадной столовой, где стоит помпезная мебель из темного мореного дуба и громоздкие книжные шкафы с зеркальными стеклами, где по стенам тянутся широкие дубовые панели, на которых выставлены бокалы и охотничьи трофеи деда. Я слышал, как на Эйфеле, в каких-нибудь двадцати километрах от нас, гремели орудия, а по временам различал даже треск пулемета. Герберт Калик, исполнявший роль прокурора, бледный, белобрысый, с лицом фанатика, беспрерывно стучал костяшками пальцев по буфету и требовал:
— Твердость, твердость, непреклонная твердость.
Меня приговорили к рытью противотанковой траншеи под надзором Герберта; в тот же день, следуя традиции семьи Шниров, я начал кромсать немецкую землю, я кромсал ее, впрочем, собственноручно, что уже противоречило традиции Шниров. Свою траншею я вел по любимой клумбе дедушки, на которой он сажал розы, прямехонько к тому месту, где стояла копия Аполлона Бельведерского, и с радостью предвкушал минуту, когда мраморный Аполлон падет жертвой моего рвения; но радость эта была преждевременна: статуя Аполлона пала жертвой веснушчатого мальчугана, по имени Георг; Георг погубил и себя и Аполлона, нечаянно взорвав противотанковую гранату. Комментарии Герберта Калика к этой прискорбной истории были предельно краткими:
— К счастью, Георг был сиротой.
Я выписал из телефонной книжки номера всех, с кем мне придется говорить; слева я записал столбиком имена знакомых, у которых можно перехватить денег: Карл Эмондс, Генрих Белен — с обоими я учился в школе, первый был когда-то студентом богословия, теперь он — учитель гимназии, второй — капеллан; далее шла Бела Брозен — любовница отца; справа был другой столбик, с именами людей, у кого я буду просить денег только в случае крайней необходимости: мои родители, Лео (у Лео можно просить денег, но у него их никогда не бывает, он все раздает); члены католического кружка — Кинкель, Фредебейль, Блотхерт, Зоммервильд; между этими двумя столбиками я вписал Монику Зильвс и обвел ее имя красивой рамочкой, Карлу Эмондсу придется послать телеграмму с просьбой позвонить мне. У него нет телефона. Я с радостью позвонил бы Монике первой, но позвоню ей последней: в той стадии, в какую вступила наши отношения, пренебречь Моникой значило бы оскорбить ее как физически, так и метафизически. В этом вопросе я вообще попал в ужасное положение: с тех пор как Мария убежала от меня, «убоявшись за свою душу», так она говорила, я из-за склонности к моногамии жил как монах, хоть и поневоле, но сообразно своей природе. Если говорить всерьез, то в Бохуме я поскользнулся и упал на колено в какой-то степени намеренно, чтобы прервать турне и получить возможность приехать в Бонн. С каждым днем я все больше страдал от того, что в богословских трудах, которые читала Мария, ошибочно именовалось «вожделением плоти». Я слишком любил Монику, чтобы утолить с ней «вожделение» к другой. Если бы в богословских трактатах говорилось о вожделении к женщине, то и это звучало бы достаточно грубо, но все же намного лучше, чем просто «вожделение плоти». Не знаю, что можно назвать «плотью», разве что туши в мясных лавках, но даже туши не только «плоть». Стоит мне представить себе, что Мария делает с Цюпфнером «то самое», что она должна делать только со мной, и моя меланхолия перерастает в отчаяние.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


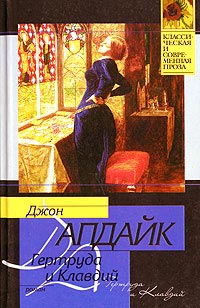
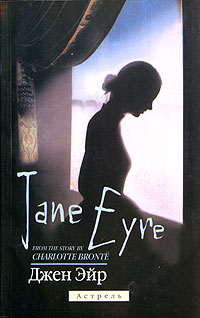

Комментарии