Аргентинское танго - Елена Благова Страница 72
Аргентинское танго - Елена Благова читать онлайн бесплатно
И разносчики даров моря, снуя по улицам с деревянными лотками на груди, зазывно кричали: «Рыба, рыба! Свежая рыба! Кальмары, кальмары! Щупальца осьминогов!.. Свежие трепанги!.. Лобстеры, свежи лобстеры!.. Раковины, покупайте отличные большие океанские раковины к карнавалу!..»
И они с Иваном целый день отдыхали в роскошном отеле, в номере люкс — Станкевич, в кои-то веки, не поскупился на люкс; плескались в мраморном джакузи; нежились на балконе в шезлонгах, подставляя лица солнцу; ели манго и авокадо, бананы и любимые Мариины апельсины, запивая их легким белым вином и крепким «porto negro»; и только, когда Иван обнял ее и недвусмысленно приблизил к ней лицо, щекоча губами порозовевшую на солнце мочку ее маленького уха, она отодвинулась от него и томно, лениво-устало сказала: хочу спать, Ванька, нам надо выспаться, завтра вечером у нас с тобой первое выступление, я не смогу станцевать финальное болеро, если я не высплюсь как следует. Не с тобой, прости. Я лягу одна. У нас же люкс, у нас же тут три сногсшибательных комнаты, мы же тут можем свой собственный карнавал устроить, правда?..
КИМ
Я не мог. Я не мог без нее.
Я не мог без нее ни дня. Я очумел. Я отупел. Я понял, что я погружаюсь в черный омут. В омут безлюдья; безвоздушья; бесстрастья; безделья. Я потерял работу. Я скрывался на даче у Славки. Я позвонил жене, моей беленькой кудрявой болонке, и сказал сдавленным голосом в трубку: «Прости, все так вышло. У меня есть женщина. Ее зовут Мария. Она моя жена перед Богом. Я ухожу из дома. Я ухожу от тебя. Я теперь больше не работаю у Беера. Я теперь не знаю, где я живу. Может быть, я уеду из Москвы. Совсем. Тем более, что меня в Москве могут подстрелить ненароком. Я тут напортачил малость. Хозяин недоволен мною. Я оставил тебе все заработанные у него деньги. Перевел все со своего счета на твой. Ты и девочки, вы проживете. У меня на жизнь есть пока». Я выслушал все взорвавшиеся в трубке вопли, рыдания, угрозы, причитания, просьбы, мольбы и упреки. Я молчал, слушая это. Потом сказал: «Я весь протянут к этой женщине. Она — жена другого». — «Кого?!» — завизжал, зазвенел отчаяньем голос женщины, которую я любил, с которой жил и родил детей. «Моего сына», — ответил я. В трубке повисло долгое, страшное молчание. Теперь молчала она. Потом я услышал голос чужого человека. Этот чужой, холодный и презрительный голос металлически, железно вычеканил: «Тогда иди на…»
Я понял, что я больше не вернусь в тот дом, где меня послали на… Это было невозможно для меня. Какие-то вещи я смог бы сделать. Какие-то — не мог ни при каких условиях. Никогда.
Старая Славкина дача, сырая зима, оттепели, метели, дрова. Дрова таяли стремительно. Я понимал, что, конечно, по большому счету сдался я Бееру, но пес его знает, Аркадия, он запросто мог отыскать меня в Москве, под Москвой, за бугром, где угодно, и его человек мог залепить мне хорошую маслину в лобешник или в грудь. Я бы не хотел быть застреленным в спину. Мне в детстве, когда я начал заниматься биатлоном, снился кошмарный сон: я бегу, меня догоняет враг, я лезу через забор, забор высокий, старые серые, черные, гнилые доски, я цепляюсь рубахой за гвозди, карабкаюсь вверх слишком медленно, — и я уже слышу, как тот, кто гонится за мной, дышит рядом, громко и хрипло, и я слышу противный свист пули, и я чувствую, как пуля вонзается мне в спину, застревает внутри меня, в легких, и я понимаю: это смерть. Все, меня убили! И мне становится жарко. Внутри все заливает жаром. Я понимаю: это кровь, она обрушивается внутри меня, как кипящий водопад, я знаю: пуля все разорвала во мне, и сейчас я умру. И я падаю, цепляясь руками, ногтями за забор. Сползаю по забору вниз. И дикий, последний страх — страх пустоты — страх того, что там — за последней гранью — НИЧТО — охватывает меня всего. И звон, дикий, оглушительный звон крови в ушах. Это оглушает меня, все застит последний страх.
И я просыпаюсь, преодолевая этот страх. Я мечусь по кровати, катаю голову по подушке, заставляю себя проснуться страшным, нечеловеческим усилием воли, и еще минуту, две слышу у себя в голове, во всем теле дикий звон, будто бьют в набат, будто звонари колышут, крича, на всех колокольнях огромные басовые колокола. И мать склоняется надо мной, в ее руке мокрое полотенце, она кладет мне его на лоб и крестит меня, и шепчет, чуть не плача: «Ким, Кимушка, детка, тебе опять страшный сон приснился… Господи, забери от детоньки моей страшный сон…»
Жизнь — страшный сон. Только я вот все никак не проснусь.
А время, что я не спал, а жил — было единственное время: с Марией.
Моя черноглазая испанка. Моя дикая, смуглая цыганка. Да, это я, а не он, я твой тореро. Я твой тореадор в расшитой короткой золотой куртке. А все, кто бегает у ног моих и твоих, кто пытается проткнуть меня рогом, а тебя — взвалить на спину и унести прочь от меня — поганые черные быки. И я их всех убью. Всех. У меня рука набита, ты это знаешь.
А если… ты?.. Если ты… сама… меня… разлюбишь…
Ведь мы — одно…
Тогда я… тебя… сам… и потом… себя… Ибо без твоей любви — нет мне жизни, нет…
Но ты любишь меня. Я знаю.
Ким, старый дурак, о чем ты думаешь! Ты — маньяк! Ты спятил на этой танцовщице! Вот она — молодец, она взяла себя в руки! Я внушал себе, что я маньяк и идиот — и не верил себе, и смеялся над собой. И ворошил кочергой в печи на старой даче Славки Пирогова отсырелые дрова, пристально, тяжело глядя в огонь, и понимал: она хоть и далеко, а любит меня, и никогда не разлюбит, даже если моря высохнут, и реки потекут вспять, и звезды посыплются с неба на землю, как снег, и солнце повернется к людям обратной черной стороной. Я встану перед ней, вырасту из-под земли — и она кинется мне на шею! И я крепко обниму ее — так крепко, что хрустнут ее тонкие и выносливые косточки танцорки.
Женщина, что не умеет хорошо плавать, скакать на коне и танцевать, не годится и для любви. Это она говорила мне. Это мудрость древних басков.
Баски, древнее племя Испании… Баски, горный народ Пиренеев… Бискайский залив, густая синева моря, звучный и странный язык, женщины, что носят на головах уборы в виде огромных золотых и медных колес… Цыгане, поющие на дорогах, гадающие в тавернах, ночующие в пещерах… Все, как тысячи лет назад… Только белый крестик самолета — в пустом, белесо-жарком небе…
Я глядел в огонь, на буйную пляску пламени. Огонь тоже пляшет олу. Огонь вырывался из печной дверцы, опахивал жаром мое морщинистое лицо. Каждый день, прожитый без нее — новая морщина. Старость, я не боюсь тебя. Если я пуль не боялся — тебя ли мне бояться? Я готов был закрыть глаза, сложить руки на груди и умереть здесь, на этой заброшенной даче, и чтобы меня никто не нашел, ну, пусть Славка найдет, приехав через полгода и обнаружив мой зловонный труп на бабушкином диване с торчащими пружинами. Но я понимал: надо жить. Надо жить, потому что я в жизни еще раз должен увидеть ее. И это свидание с ней — это еще год, еще пять, еще десять лет моей жизни. И огонь плясал все буйнее, все невоздержанней, рыжие лисьи хвосты сплетались и расплетались, рушились оранжевые небоскребы, разевались красные хищные пасти, взрывались алые снаряды, и малиновые искры летели в разные стороны, обжигая руки, и золотые зерна падали на пол, сыпались во тьму; и я увидел — там, в сполохах огня, пляшет она, Мария, пляшет, поднимая золотые руки над головой, и ее жаркое, красное смуглое тело все выгибается навстречу ему, и я чуть не сунул руки в огонь, чтобы выхватить из пламени ее — и застонал, и опустил голову в колени, стыдясь себя, своего навечного, неизлечимого сумасшествия. Да, я был нормален! И вот я сошел с ума. Я сунул руку не в огонь — за печку, туда, где была спрятана от крыс, чтобы не уронили в шкафу, в старом посылочном ящике початая бутылка дешевой «Старорусской», купленной в здешнем сельмаге. Я отвинтил затычку и глотнул из горла. Где она теперь? Кто об этом знает? Станкевич? Беер? Московские сплетницы-газеты? Надо завтра утром купить газету на станции.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
![Читать онлайн книгу Живой щит [= Гарпун для Акулы] - Сергей Зверев Живой щит [= Гарпун для Акулы] - Сергей Зверев](https://freereadknigi.com/images/books/17556/17556.jpg)


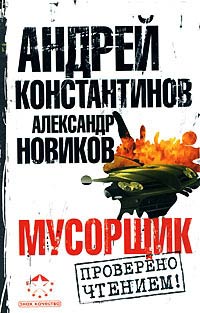
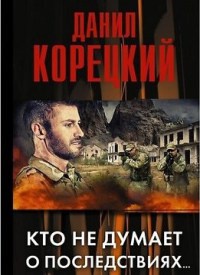
Комментарии