В двух шагах от рая - Михаил Евстафьев Страница 20
В двух шагах от рая - Михаил Евстафьев читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
…кровожадным варварам отвечаем тем же…
и никто не мог его остановить, даже Моргульцев. Ротный просто делал вид, что ничего не знает. Попробовал как-то Немилов, которому кто-то из солдатиков донес, пригрозить прокуратурой, и после пожалел, испугался.
…Женька его предупредил: «ты либо с нами, либо против нас…»
Однако, при всей ненависти к афганцам, бойцам Женька воли не давал, руки распускать и издеваться над пленными духами запрещал категорически, также как не допускал у себя во взводе мародерства, за любое воровство, пусть самое незначительное карал беспощадно.
Он один был и судьей, и мстителем, и палачом.
…и не погибни брат Женьки при столь трагичных обстоятельствах, не
изуродуй его тело духи, не превратился бы Женька в кровожадного
мстителя… это уж точно!..
Не пытались остановить Чистякова, потому как знали, отчего у него это все пошло, и понимали, что люто мстит он афганцам за брата, и сочувствовали.
…а кого не изменил Афган?..
Начиналось чаще всего с услышанного о жестокостях войны; позднее наслаивались, нанизывались увесистые, сочные, как хорошее мясо на шампур, собственные испытания и впечатления; и, сам того не всегда ведая, человек все дальше и дальше отодвигался от привычных для Союза ценностей, норм, заражался здешней, временной афганской моралью, грубыми нравами;
…как во времена монголо-татарского ига… сила становится правом…
то, что считалось диким там дома, в Афганистане незаметно становилось естественным, повседневным, обычным, как смена дня и ночи, как подъем и отбой.
Непомерные страдания и переживания за потерянных друзей, трудности полукочевного, непонятного по времени и по сути существования на чужбине, за сотни и сотни километров от родных краев, физические лишения, столкновение со средневековым варварством и дикарством, пережитые ужасы – все это притупляло чувства, притупляло жалость, притупляло врожденную, свойственную русскому человеку от природы доброту, и возрождало давно забытые, затерянные в глубине веков грубость, бесчеловечность, унаследованную древними предками от двухсотлетнего ига татарщины.
…вернется Женька домой, и все изменится, забудется,
останется позади, навсегда в прошлом… или я просто
успокаиваю себя?..
Чтобы прервать наступившее в комнате молчание, как бы между прочим, заговорил Женька Чистяков про последний рейд, подчеркнув, что прошел он удачно:
– …в плане выполнения социалистических обязательств по сбору «ушей». Я, бля, целый мешочек привез. Они уже подсохли… Для подарков собираю: на веревочку нанизываю, как бусы. Хочешь тебе, бача, подарю? На счастье, бача! – искренне обратился Чистяков, впервые за вечер улыбнувшись, к заменщику, и полез в боковой карман «хэбэ».
Лейтенант Епимахов ухмыльнулся, не сразу поняв о чем, собственно говоря, идет речь, и так остался сидеть с улыбкой на лице, верно думая, что это розыгрыш такой придумали новые друзья. Когда же до него, наконец, через пьяную голову дошло, что предлагалось ему в качестве первого афганского сувенира, он побледнел, уставившись мутными от водки глазами на развернутую тряпочку в руках Чистякова, где маленькой кучкой лежали коричнево-черные, скукоженные, как чернослив, человеческие уши.
– На, бача, они не кусаются, – совал уши Женька Чистяков.
–?..
– Убери ты их на.уй! – рассердился Шарагин. – Сейчас блеванет и стол загадит… Достал ты всех этими ушами…
Женька как будто и не обиделся даже: хмыкнул, пожал плечами, сворачивая тряпочку, запрятал ее обратно в карман.
* * *
Чистяков улетел в Союз. Распрощались с дембелями. И рота прямо-таки обеднела, притихла, сделалась серой. Понуро, затравлено шатались по казарме новички, наводя на Шарагина тоску. Он присматривался к их сонным, мало что выражающим рожам, не припоминая сразу имена, фамилии, различая пополнение по курносости, по веснушкам, по оттопыренным ушам, недовольно косился на стесненные движения, раздражался неуверенностью молодых в обращении с оружием и техникой, но обнаруживал, хотя и редко, у отдельных новичков намечающуюся хваткость.
Постепенно он составил представление о пополнении. Кого-то, между делом, расспросил о жизни до призыва, и о родных, о ком-то узнал из личных дел; много-много маленьких, казалось бы, незначительных, мало что значащих деталей обнаружил, обдумал, взял на заметку. Он хотел твердо знать, и быстро уяснил, что определяет настроение того или иного солдатика, все ли годны к службе в Афгане, какая прилетевшая из дома весть беспокоит выезжающего на боевые молодого бойца.
Рано все же было загадывать, кто и на что способен, потому что только война в состоянии расставить все по полочкам. Как говорил в таких случаях капитан Моргульцев: «Весна покажет, кто где нагадил…»
В первый вечер Шарагин не обратил внимание, не разглядел, что лейтенант Епимахов относился к числу тех людей, поговорив с которыми поближе, наполняешься сочувствием и отчасти даже некоторой жалостью, улавливая в глазах, за неистребимым, ни то юношеским, ни то совсем детским, интересом и азартом, какую-то отдаленную, еще не разыгравшуюся трагедию.
Новый взводный оказался не по-армейски начитан и образован. Кость – армейская, вэдэвэшная, а сердце – мечтателя.
Завидя как-то по прошествии нескольких недель Епимахова в роли ответственного по роте, Шарагин усмехнулся:
– Такой массивный череп зажимать ремнями и портупеей – преступление! Пойдем, Николай, подышим свежим воздухом.
– Хорошо учился? – как бы невзначай поинтересовался, прикуривая, Шарагин.
– Да, неплохо, вроде бы, – заскромничал Епимахов.
– Все помнишь?
– Все…
– Ну так вот – забудь всю эту ахинею!
Из Епимахова ученик получился послушный, внимательный и благодарный; он впитывал советы жадно, как промокашка, и с вопросами не стеснялся больше: а что в такой ситуации обычно делают? а если так выйдет? Во все вникал до мелочей.
Только тянуло его больше говорить на другие темы. Как мальчишка (да мальчишкой он, по сути дела, и был – солдатам старослужащим почти ровесник!) заглатывал Епимахов все услышанное и тут и там о войне, все героическое и трагическое; о войне, что жила совсем близко, где-то за оградой части, и все видели ее много раз, все, кроме него.
Не терпелось, как водится новичку, Епимахову испытать, проверить себя в бою, под огнем, и награды, пожалуй что, мерещились, подвиги разные.
А в глазах, в этих голубых, не пораженных пока войной глазах, читался невысказанный Шарагину вопрос, почти по теме, но не совсем: «А ты сам много убивал? А что при этом чувствовал?»
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

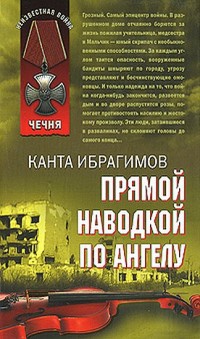
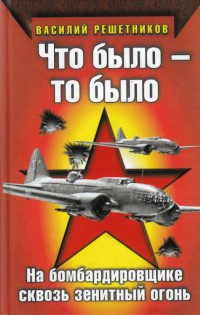

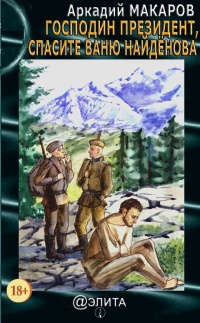
Комментарии