Круги на воде - Вадим Назаров Страница 2
Круги на воде - Вадим Назаров читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Так, традиция ангелографии уходит своими корнями к гностикам, можно выделить несколько периодов расцвета и вспомнить имена хотя бы Дионисия Ареопагита и Бонавентуры. Метод дивинации с успехом применяли великие визионеры от Данте до Даниила Андреева; метод имеет очевидные преимущества, точнее сказать, преимущества очевидности: то, что показано ясно, не требует доказательства:
«Вместе с девственностью она, как и все женщины, потеряла способность различать некоторые оттенки красного, а детей у них не было».
Представленный здесь уровень очевидности можно назвать исчерпывающим, единственная трудность состоит в том, что такой способ демонстрации не поддается изучению. К тому же дар ясновидения сам посебе отнюдь не гарантирует способности «яснопоказывания» – в противном случае искусство письма (и вообще искусство) было бы излишним. Испытать влияние, быть очарованным, учиться у мастеров – всего этого недостаточно, чтобы обрести право легкости, когда художник говорит: вот, смотри, – и всякий взглянувший увидит…Назаров обладает правом легкости и распоряжается им по своему усмотрению.
Ненавязчивость литературной искушенности – это органичность писателя. Подобно своему приятелю Павлу Крусанову Вадим Назаров тоже мог бы указать какую-нибудь ворону на дереве в качестве строгого, но справедливого учителя чистописания. В романе есть такого рода отсылки:
«Позднее, наяву, я видел изображения, отдаленно напоминавшие лилии из сна. Книга, где я их нашел, называлась Летний луг глазами майского жука».
Среди привилегированных объектов желания можно отметить купол Исаакия и мосты Петербурга. Очертания этого города нанесены на контурную карту духовной родины. «Круги на воде» – глубоко петербургский роман.
Извилистая траектория путешествия многократно проходит через Петербург. Горние сферы над этим городом особенно плотно населены, а низкое петербургское небо свидетельствует о непрерывности контакта между хранителями и хранимыми. Иногда зазор исчезает вовсе, смыкая сон с явью и соединяя Неву с рекой Фисон, подтверждая каждодневные подозрения, что видимая часть Невы – всего лишь зеркальная проекция тех вод, что были отделены от тверди. Путевой отчет указывает на эту странную особенность, едва уловимую в силу своей очевидности:
«Я провел по лицу ладонью и сквозь пальцы увидел: Поместный Ангельский Собор на ярусах Исаакиевского, строгие книжники Синода, легкомысленный Гений триумфальной колонны, Александриец, попирающий змея. Всюду мне открылись знаки горнего присутствия. Вазы и статуи на крышах только усиливали ощущение необитаемости. Строитель Империи, похоже, и в самом деле творил этот город не для людей. Отсюда и водный простор, привлекающий ветра, и тенистые парки, и смотровые площадки на куполах церквей».
Такова кратчайшая монограмма очарования Города, его формула, реализованная как замысел свыше: Петербург прекрасен со стороны моря, реки и неба – и невзрачен, почти непригоден для обитания изнутри. Что, однако, вполне устраивает зачарованных обитателей, способных здесь жить, – а до прочих Городу нет дела. Близость горнего присутствия объясняет и отсутствующий вид, и склонность вялотекущих разговоров начинаться и заканчиваться невпопад. Зато круги на воде здесь расходятся лучше всего, и раскаты вещих глаголов всего слышнее. Нет лучшего места для стажировки визионера-практиканта. Привыкнув к постоянному вмешательству призраков – полноправных жильцов, навечно прописанных в городе, – потом долго приходится стряхивать наваждение символического. Едва ли кто способен жить в Петербурге безвыездно и оставаться невредимым. Тому есть надежные свидетельства – от «Медного всадника» до романов Константина Вагинова, и в книге Назарова можно проследить момент передачи эстафеты, не требующий специального оповещения.
Продолжая разговор о творческом методе, следует обратить внимание на принадлежность к современной литературной манере в лучшем смысле этого слова. Отказ от психологизма, лишенный даже опасений и поэтому не декларируемый, знаменует собой некую новую степень свободы. Автор избавляется от необходимости иметь дело с такими подозрительными реалиями, как характер, мотивировка, – и вообще отказывается от традиционной искажающей оптики реализма. Навязанное в свое время требование непременного описания сюртука или выражения лица героя уже давно дискредитировано как в высшей степени искусственное и вводящее в заблуждение. Перечисление «того, что стояло на столе», можно найти только в книге, подобный перечень никогда не присутствует ни в памяти, ни в структуре нормального человеческого восприятия. Вот мы пьем утром первый глоток кофе: посторонний наивный рассказчик может обставить это событие предметными аксессуарами – желтая керамическая чашечка, потрепанная скатерть, позвякивающая ложечка, купленная еще старшей сестрой в магазине на углу улицы X и улицы Y. Но для нас событие не распадается на отдельные предметы и разворачивается совсем в другом измерении, где-нибудь на кромке отступающего сна и подступающего бодрствования. Из предметов разве что стрелка часов присутствует в сознании – как резец, очерчивающий еще смутные намерения и столь же смутные желания.
Честность самоотчета требует избегать подсказок – готовых шаблонов, отстойников паразитарной словоохотливости. Для уклонения от таких ловушек вполне достаточно начальной школы вкуса. Ловушки психологизма устроены куда более хитро – они требуют, например, выстраивать характер героя, не отступая ни на шаг и усматривая в этой монотонной последовательности некую жизненную достоверность. Что ж, если такова «правда жизни», то придется признать, что она существует только в искусстве – в самой жизни ее нет.
Есть летучие конфигурации желаний, как правило не совпадающие с химерой характера. Помимо психологических мотивов есть просто мотивы, похожие на музыкальные темы; их красота и неожиданность могут быть вполне достаточным основанием для поступка. Мотивировка настоящего писателя не должна слишком далеко отклоняться от мотивировки композитора: когда опытный путешественник по сфере символического наталкивается на границу условности, он становится перебежчиком границы. Роман Назарова можно порекомендовать как инструкцию для перебежчиков.
Выигрыш в свободе (про)зрения выпадает тому, кто научился игнорировать навязчивую видимость повседневности, принудительную телесность и материальность мира, порождаемую очередным поствавилонским наречием. Прозрение не совместимо с подозрением, всегда затрудняющим вольный полет речи. Уклонение от ловушек позволяет вести наблюдение над странноживущими существами, не образующими свойств и тем более черт характера. Например, над племенем зарниц:
«Над полем полыхнули зарницы. Говорят, это тени существ, обитающие в пламени. Должно быть, на брошенной ферме загорелась гнилая солома.
Во время войны зарницы кружили над городом, как вороны над цыганской лошадью, и бросались на дровяные склады и библиотеки, опережая порой зажигательные бомбы. Это называется самовозгоранием.
За войну род зарниц разжирел.
Война многим служила хорошим прикормом».
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
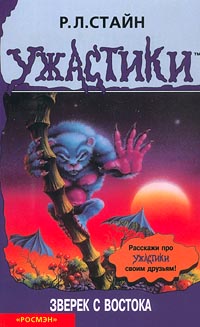




Комментарии