Айрмонгер - Эдвард Кэри Страница 13
Айрмонгер - Эдвард Кэри читать онлайн бесплатно
Как-то раз, наблюдая за Туммисом во дворе, я заметил, как он, привстав на цыпочки, норовит привлечь пролетающих мимо чаек протяжными криками, будто он и сам чайка, а еще хлопает руками, будто хочет взлететь, или разводит их в стороны, якобы собираясь парить. А уж о том, что он вечно таскал им крошки, а то и целые булки, можно и не вспоминать. Но больше чаек и даже больше страуса Туммис любил Ормили.
Кузина Ормили была вся из себя такая маленькая, няшная и застенчивая, тихонькая и незаметная; волосы у нее были светлые, почти белые, да и брови тоже. И еще — отчего-то ей очень нравился Туммис. Надо заметить, для Айрмонгеров это было весьма странное совпадение, и что с этим делать, никто понятия не имел. Предметом рождения Ормили, как по случаю дал мне понять Туммис, была садовая лейка (Ормили сама ему призналась — а что может быть лучшим доказательством любви, чем такое признание?). Вот Туммис и назвал свою чайку Лейкой.
— Иногда мне кажется, что я в коротких штанишках так и помру, — пожаловался мне он, — и нам вовек вместе не бывать. А я как раз собирался повидать ее до вечерней молитвы. Она должна ждать меня у Большого Прапрадеда. И как мне сказать ей, что я потерял Лейку? Она подумает, что вот как я к ней отношусь…
Туммис выглядел столь безысходно жалким, что с этим нужно было срочно что-то делать.
— Туммис, — говорю, — ничего не бойся, раз договорились — ступай, а я, если хочешь, постою-погляжу, чтобы вам не помешали.
— Правда, Клод? Ты и в самом деле ради меня готов пойти так далеко?
— Повторяю, никто не потревожит вас.
— О, тогда скорее и — спасибо-спасибо-спасибо!
— …И никакому Муркусу мы не позволим больше ничего разбить!
С этими мыслями мы устремились вниз по мраморным ступеням, ведущим к Большому Прапрадеду, чтобы успеть до того, как ударит гонг. На цыпочках мы благополучно проскользнули мимо личного бабушкиного носильщика, что мирно клевал носом у своей конторки (в числе прочего ему вменялось в обязанности допускать или не допускать посетителя в бабушкино крыло). А ниже, на очередном витке лестницы, словно часовой, стоял знаменитый Большой Прапрадед — так мы называли старинные напольные часы родом из некоей мануфактуры по шлифовке ботинок в Тутинге. Большой Прапра отличался огромным циферблатом, ростом и статью, дверцей, ведущей к механической части, и вместительным укромным отделением, где от посторонних глаз вполне могли укрыться двое, чтобы посекретничать под часами. Туммис забрался внутрь, а я обосновался неподалеку с невинным видом завязывать и распускать шнурки — занятие, коему можно было предаваться бесконечно долго, не вызывая лишних подозрений. Легкий шорох на ступеньках, сдавленный шепот тайного знака — и, словно с дуновением ветерка, из-за поворота выпорхнуло легкое белое облачко, которое, завидев меня, от смущения чуть было не растаяло в воздухе.
— Все в порядке, Ормили, — сказал я, — можно идти, он уже ждет тебя, а я тут постою на часах.
Мимо меня, как бакены в тумане, проплыли пунцовые щечки — она скрылась под часами, а я остался на часах вязать шнурки, наставив ухо на лестницу. В любой момент лестница могла содрогнуться от тяжелой поступи Айрмонгеров, несущихся на вечернюю молитву. Я сидел, скрючившись в ожидании первых шагов, но пока тишину нарушало лишь приглушенное шипение газовой лампы сквозь мерный тяжелый «тик-так». Тут-то я и услышал настороженный шепот:
— Айви Орбютнот? Айви Орбютнот?
Из желания подбодрить осторожную лампу я тоже шепнул ей в ответ:
— Как скажешь, Айви Орбютнот.
— Айви Орбютнот? — донеслось опять.
— Определенно, Айви Орбютнот, — кивнул я. И тут, помимо голоса газовой лампы, я уловил еще какие-то голоса. Они доносились прямо из чрева Большого Пра. Поначалу мне слышалось какое-то журчание, в котором ничего внятного я уловить не мог. Я припомнил, что такое же журчание уже слышал когда-то в тех редких случаях, когда поблизости была Ормили, но и тогда уловить нечто большее, нежели лепет, мое ухо было не в состоянии — уж больно застенчивым было то, что подавало голос. И лишь теперь, горбатясь у часов, я начал разбирать слова. И вот что я услышал:
— Хилари Эвелин Уорд-Джексон.
— Перр… Бр… уэйт.
— Хилари Эвелин Уорд-Джексон.
— Пердита Брейтуэйт.
— Хилари Эвелин Уорд-Джексон.
Et cetera, et cetera.
«Хилари» — и снова: «Брейтуэйт». И вновь, и вновь, и вновь — без оглядки на то, что вот-вот ударит гонг. А тут — нате вам: какая-то лирическая баллада краника и лейки. Но, чтобы не мешать им, я деликатно спустился на несколько ступенек и незаметно оказался в Мраморном зале. Здесь, в большом парадном коридоре Дома-на-Свалке, в самой что ни на есть сердцевине архитектурного колосса со всеми его надстройками и пристройками, и стоял чрезвычайный как по размерам, так и по важности предмет, скажем так, мебели с толстой стеклянной передней стенкой на восьми резных ножках в виде поддерживающих его львов. Это и был так именуемый нами Великий сундук. Внутри него находились полочки, и немало, а на полочках покоились вещи покойных Айрмонгеров. У каждой вещи была своя веревочка, а на веревочке — бирочка, а на бирочке — памятная надпись с именем того, кто ранее принадлежал данной вещи. Вот лишь некоторые имена моих предков, как они виделись сквозь стеклянную дверь:
Идуон, чернильница-непроливайка
Агит, коробочка для пилюль
Арфрах, подставка для раковины
Робитт-Фрайдик, перочинный нож
Слиболла, котелок для рыбы
Боррид, кувшин для умывания
Науд, щипчики-пинцет
Когда Айрмонгер умирал, предмет, с которым он был связан незримыми узами, помещался в этот склеп в Мраморном зале и замирал навсегда: больше я его не слышал, а он со мной не говорил. На пятой полке здесь были и мои, материнские и отцовские:
Айрис, ключ к фортепиано
Пунтиас, мочалка для стирания мела с доски
Мне говорили, что я чем-то напоминаю свою мать, поэтому мое присутствие вызывало у окружающих то ли неловкое, то ли тяжелое чувство. Кстати, едва я успел родиться, как она умерла. Моя бабушка находила весьма обременительным следить за мной, поэтому иногда я не видел ее месяцами. А мама — та была всеобщей любимицей, у дедушки с бабушкой она была самой младшенькой и первой девочкой после двенадцати мальчишек. А вот я о ней почти ничего не знаю. Знаю только, что она пела, и голос, как утверждали взрослые, имела чарующий. Но я с момента моего рождения вообще никаких песен не слышал. Бабушка запретила петь.
Об отце говорить было не принято. Он был тихим и мирным человеком, с рождения имевшим слабое сердце. Почти всю свою жизнь, вернее существование, он проводил закутанным в ватные одеяла, подпитываясь сахаром в кубиках, которые ему давали по часам, да еще и в звуконепроницаемой комнате, лишь изредка будучи выносим из нее для визитов к моей матери, ибо так решил дед еще тогда, когда она только на «агу-агу» откликалась: быть ей замужем за маленьким Пунтиасом, а потом отступать было поздно, даром что у того нелады с «насосом». Вот и держали его взаперти на всем готовом — лишь бы дожил до того дня, когда сможет жениться на моей матери, и даже подышать вольным воздухом Свалки не позволяли. Через две недели после того, как я появился на свет, от великого горя в связи с кончиной моей матери и от великой радости из-за моего появления его сердце остановилось.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
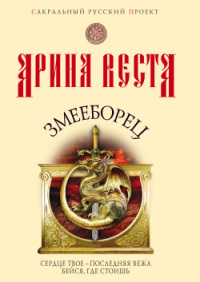




Комментарии