Счастливые несчастливые годы - Флер Йегги Страница 9
Счастливые несчастливые годы - Флер Йегги читать онлайн бесплатно
Ее звали мать Эрменегильд. Нрав у нее был веселый, она играла вместе с нами. В монастырском дворике ее сильные руки радостно взлетали вверх, чтобы поймать мяч, и бегала она тоже хорошо. На этом острове мы могли делать, что хотели. Но нам запрещалось выходить из здания поодиночке. Полагалось всегда быть вместе. Выходить по возможности вдвоем или вчетвером. Чтобы было четное число. Если у девочки не было чувства коллективизма, подруги моментально догадывались об этом. В дождливые дни все мы собирались в одной большой комнате. Кто-то слушал радио. Кто-то читал детективный роман. Остальные тупо смотрели перед собой, не зная, чем заняться. Самые старшие, немки, занимались шитьем. Баварские кружевницы. Мать Эрменегильд наблюдала за нами. За нашей свободой. Каждая из нас должна была наслаждаться свободным времяпрепровождением. Окна ванных комнат выходили в узкий темный проулок, огражденный стеной. Вода для нас уже была приготовлена. Очень горячая вода. Мне казалось, что я захожу туда одетая. На острове было две церкви, католическая и протестантская. На Боденском озере была свобода вероисповедания. Для разнообразия я стала ходить в протестантскую церковь. Несмотря на приказ из Бразилии: посещать католический храм. Она приказывает, я повинуюсь, каждый триместр проходит по намеченному ею плану, обо всем оповещают письма и марки, эти беззвучные колокола. Правительственные депеши.
Когда я выходила на утреннюю прогулку, все еще спали, даже Фредерика. Над лугами на крутом склоне холма низко носились вороны, уродливые, кичливые, жестокие. Я подумала, что они похожи на нашу юность, а они стали обследовать местность вокруг пансиона, ища, во что бы вонзить когти. Через полчаса я была уже наверху, вдыхала полной грудью холодный воздух. Вселенная, как показалось мне, безмолвствовала. Я не хотела Фредерику, не думала о ней. По ночам она читала и, возможно, заснула сегодня только на рассвете. Утром она держалась как-то напряженно, под глазами были круги. Там, на вершине, у меня наступало состояние, которое можно было бы назвать мучительным блаженством. Это было упоенное, ничем не нарушаемое торжество эгоизма, сладостное мщение, — и для такого состояния требовалось абсолютное одиночество. Мне казалось, что это упоение сродни инициации, а боль, которой сопровождается блаженство, — плата за приобщение к тайне, часть магического ритуала. Потом у меня это перестало получаться. Я больше не испытывала такого неповторимого ощущения. Каждый пейзаж строил для себя нишу и замыкался в ней.
Я бегом спускалась с холма и вскоре оказывалась в спальне, немка еще не успела распахнуть окно, от ее снов, хоть они и были веселыми и легкими, в воздухе повисала какая-то тяжесть — потому, наверно, что кавалерам, приглашавшим ее на танец, бравшим ее за молитвенно протянутые руки, тоже надо было дышать. Этими руками она только что натянула на себя одежду, пуговицы на блузке еще не были застегнуты, на урок идти не хотелось — об этом недвусмысленно говорил ее сонный взгляд.
Такой девушке, как она, надо было бы жить совершенно другой жизнью. Она была исполнительной, хотела все сделать как можно лучше — это стремление она унаследовала от родителей, однако ее родители отличались большей работоспособностью. По ее улыбке, робкой, дружелюбной улыбке тупицы было видно, что школьная премудрость ей не по зубам. Она позволяла ласкать себя теплому воздуху нашей комнаты, в ней была какая-то чувственная покорность, ей трудно было выучить наизусть две строфы стихов, а порой — даже понять их. Раз и навсегда у нее в голове отложилось, что соседке по комнате нравятся немецкие экспрессионисты, и постепенно это превратилось в стихийное бедствие: чтобы доставить соседке удовольствие, она постоянно покупала книги и открытки. Такие люди, усвоив те или иные понятия, не расстаются с ними никогда. Затвердив урок, пусть и с опозданием, она могла повторять его снова и снова, до бесконечности.
И еще в ней была запоздалая ребячливость, не патологическая задержка в развитии, устрашающая и поэтичная, а какая-то игра в детскую лень и беспомощность. Одевалась она медленно, когда я возвращалась с моих утренних экскурсий, постель у нее была еще теплая. Подруга, которую она себе выбрала, походила на нее: девушка из Баварии, единственная дочь дельца, возглавлявшего крупную фирму. Они встречались после уроков, около пяти. А в шесть моя соседка уже возвращалась в комнату. Взгляд ее временами начинал блуждать по потолку. Недавно она получила письмо, в котором сообщалось, что ее кузен при смерти. Агония длилась несколько месяцев, она получила много писем. В этот период она, казалось, стряхнула с себя ленивое оцепенение. Представляла себе, каково это, когда человек умирает, и, рассуждая вслух, перевязывала письма розовой лентой, потом решила, что они перетянуты слишком туго, распустила узел и завязала снова, выбросила конверты, потом подобрала их, разгладила, сложила и добавила к стопке писем, для чего ей опять понадобилось развязать ленту. На сей раз она завязала ее бантом. Эти письма она хранила не в своей вычурной немецкой шкатулке, а на столике у кровати. Там, где стояли фотографии родителей и коробки с конфетами. В ящике столика лежала Библия, собственность пансиона. Наконец пришло письмо в конверте с черной каймой. Его не принесли во время обеда, как обычно бывало с письмами: начальница вручила его собственноручно. Моя соседка села к столу, посмотрела на письмо, вскрыла его, прочла, положила обратно в конверт и повернулась, чтобы взглянуть на меня. Она двигалась в замедленном ритме, словно кто-то задержал течение времени. Взяв связку писем, она распустила розовую ленту, положила конверт с черной каймой поверх остальных, снова завязала узел бантом — и все это с какой-то ангельской педантичностью.
В Тойфене идет снег. В Аппенцелле идет снег. В Бауслер-институте жилось спокойно. Скалы и кручи остались за стенами. Слышно, как кашляет негритянка: ее отца, президента африканской республики, в Бауслер-институте приняли со всеми подобающими почестями. Воспитанницам эти почести показались чрезмерными. Для встречи президента, его супруги и дочери нас построили в шеренгу, каждая стояла вытянувшись по стойке «смирно», точно часовой в будке. Фрау Хофштеттер была взволнованна, как домашнее животное при появлении хозяина. Нам было неясно, положена ли такая торжественная встреча президенту любой страны или же это раболепство перед данным африканским государством. Удивительно, что в Швейцарской Конфедерации никого не интересует ни имя президента, ни сама его драгоценная особа. В нашей семье был один президент Швейцарской Конфедерации, но он наверняка отказался бы от подобных почестей. На его могиле установлен скромный, непритязательный памятник. Ленина, который долго жил в Конфедерации, здесь называют «горячей головой». У нас в пансионе, в Тойфене, не было горячих голов. В Аппенцелле царил покой, покоем дышали дома, где жили родители воспитанниц, и мебель в этих домах, и зеркала тоже. Это были девочки из обеспеченных семей, если считать, что деньги дают обеспеченность. Некоторые злобные старики, вместо того чтобы ответить девочкам на вежливое приветствие, разражаются бранью. «Grüss Gott!» [13]— говорят немки. Но старики не хотят слышать о Боге, не верят добрым пожеланиям, думают, что над ними издеваются. Девочки спускались в деревню по извилистой тропинке вдоль невысокой каменной ограды, на которой было написано словно бы проклятие: «Töchterinstitut» [14]. И северный свет, злотворный и безумный, задерживается на этой ограде. На одном из окон дрогнули кружевные занавески, чей-то взгляд завороженно устремляется к ним, словно к горизонту. Госпожа начальница питает глубокое уважение к каждой из нас, равно как и к нашим семьям. Она неусыпно наблюдает за нами. У одной из нас замечаются признаки Weltschmerz [15]. Ее поднимают на смех.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

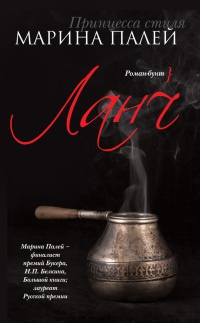
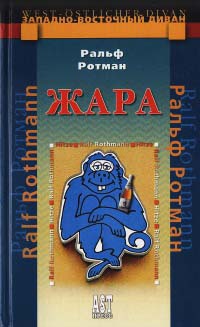
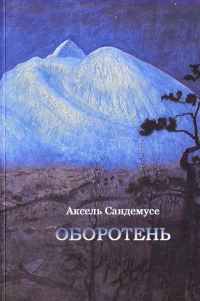

Комментарии