Человек, который спит - Жорж Перек Страница 9
Человек, который спит - Жорж Перек читать онлайн бесплатно
Быть безразличным по отношению к миру не значит его не знать или враждебно игнорировать. Твоя цель не в том, чтобы вновь обрести способность наивно радоваться от незнания, а в том, чтобы, читая, не отдавать предпочтения ничему из того, что читаешь. Твоя цель не в том, чтобы ходить голым, а в том, чтобы быть одетым, не тратя никаких усилий на изысканность или запущенность; твоя цель не в том, чтобы умереть с голоду, а в том, чтобы питаться лишь для выживания. Ты не стремишься выполнять эти действия со всей невинностью, поскольку невинность — слишком сильный термин, а хочешь лишь просто — если это «просто» может еще иметь какой-то смысл — оставить их в нейтральной, очевидной области, лишенной любой оценочной и особенно функциональной интерпретации, ибо функциональность — самая худшая, самая коварная, самая компрометирующая из оценочных категорий. Ты хочешь оставить действия в области явного, фактического, неделимого, чтобы можно было сказать только: «ты читаешь», «ты одет», «ты ешь», «ты спишь», «ты идешь», чтобы действия, жесты не превращались в доказательство или разменную монету: твоя одежда, твоя пища, твои чтения больше не будут говорить за тебя, ты больше не будешь играть с ними, стараясь перехитрить. Ты больше не будешь вверять им изнурительную, невозможную, смертельную миссию тебя представлять.
Отныне, когда ты ешь за стойкой «Петит Суре», «Бьер» или «Роже ла Фрит», это постепенно становится тем, что психологи называют «приемом пищи»: обычно не более одного-двух раз в день ты поглощаешь высчитанное с максимальной точностью количество белков и углеводов в виде куска жареной говядины, картофельных палочек, обжаренных в кипящем масле, бокала красного вина. Речь идет о стейке, иногда называемом биф-стейком или даже бифштексом, не имеющим ничего общего с нежнейшей вырезкой, о фритах, которые никто никогда бы не вздумал окрестить картофелем фри, о бокале красного вина, которое никто никогда бы не решился проверять на принадлежность к зарегистрированной торговой марке или на соответствие стандартам качества. Но твой желудок больше не чувствует — если он вообще когда-либо чувствовал — никакой разницы, как, впрочем, ее не чувствует и твое нёбо. Язык сопротивлялся намного дольше: лишь с течением времени куски мяса перестали казаться тебе тонкими, твердыми, жилистыми, ломтики картошки — жирными и размякшими, вина — засахарившимися или подкисшими; не сразу эти неимоверно уничижительные качественные прилагательные, вначале имевшие тоскливый смысл (напоминание о еде нищих, о пропитании бездомных, о бесплатных супах, о праздниках в бедных предместьях), утратили его; не сразу тоска, бедность, нищета, нужда, стыд, которые с ними неумолимо связывались — под видом жира, ставшего картошкой фри, жил, ставших мясом, уксуса, ставшего вином, — перестали тебя поражать, впечатлять, точно так же, как с другой, изнаночной стороны, для тебя потеряли всякую убедительность совершенно противоположные им признаки аристократизма, изобилия, пиршества, праздничности: сочная и нежная мясистость лангетов «де шароле», ссеков «паве», филейных «сердец», антрекотов «де фор де Аль», хрустящая позолота картофельной «соломки» или «стружки», картофеля «суффле» или «Дофин», тонкий букет отборного марочного вина из бутылки, охлаждающейся в ведерке со льдом. Отныне никакая сакральная энергия, никакой божественный нектар не наполняют твою тарелку и твой бокал. Никакие восклицания не сопровождают твои трапезы. Ты ешь мясо и жареный картофель, ты пьешь вино. Непроходимое расстояние, отделяющее «кот де бёф де ла Виллет» от «комплексного», который ты почти каждый день, не успев войти, заказываешь официанту у стойки «Петит Суре», над тобой уже не властно.
Стоит хорошая или скверная погода, идет ли дождь, светит ли солнце, дует порывистый ветер или на деревьях не шелохнется ни один лист, гасит ли фонари заря, зажигает ли фонари закат, затерян ли ты в толпе или потерян в одиночестве на пустынной площади, ты по-прежнему идешь, ты по-прежнему бредешь без цели.
Ты выбираешь сложные маршруты, то и дело прерываемые преградами, которые заставляют тебя делать большие крюки. Ты осматриваешь памятники. Ты пересчитываешь церкви, конные статуи, писсуары, русские рестораны. Ты наблюдаешь за работами, которые ведутся вдоль набережных, у дверей, на улицах, разрытых словно вспаханные поля; ты взираешь на прокладываемые канализационные трубы, на сносимые дома.
Ты возвращаешься в свою комнату и валишься на слишком узкую кушетку. Ты спишь, как идиот, с широко раскрытыми глазами. Ты пересчитываешь, комбинируя, трещины на потолке. Совмещение теней и пятен, изменение ракурсов, привязок и ориентиров без всякого усилия дают рождение десяткам новых форм, хрупким созданиям, которые ты можешь уловить лишь на миг, останавливая их каким-то названием — лоза, вирус, город, деревня, лицо, — пока они не рассыпались и все не началось снова; появляются жест, движение, силуэт, прорисовывается бессмысленный знак, которому ты позволяешь увеличиться, подчеркиваются случайные черты: глядящий на тебя глаз, спящий человек, завихрение, легкое покачивание парусника, фрагмент дерева, расколовшиеся, склеенные, зафиксированные ветви, из чьих переплетений выплывает, конкретизируясь, точка за точкой, еще один набросок лица, едва отличного от предыдущего, возможно более печального или более внимательного; зависшего в ожидании лица, на котором ты тщетно выискиваешь уши, глаза, шею, лоб, удерживая, усматривая — чтобы тут же упустить — лишь отпечаток двусмысленной улыбки, тень ноздри, предположительно переходящие в след (кто знает, позорящего или прославляющего?) шрама.
Часто ты сам с собой играешь в карты. Ты раздаешь карты в бридж, пытаешься решить задачи, публикуемые каждую неделю в «Ле Монд», но ты — посредственный игрок, и твои ходы лишены элегантности: никакого искусства заручки в длинной масти, при сбросах или смене рук. Однажды ты придумал исключительную раздачу, при которой команда, имеющая на двух руках лишь два онера, одного туза и одного валета, могла бы пробить любую защиту и с помощью красивейшей раздачи косых и прямых сделать большой шлем; но затем, увидев решение задачи и поняв, что задуманный шлем был еще менее удачным, чем казалось, поскольку его вообще нельзя было объявить, а розыгрыш не отличался никаким изяществом, ты уже больше ничего не ждал от бриджа.
Ты втягиваешься в чарующее удовольствие от раскладывания пасьянса. Ты раскладываешь на своей кушетке четыре ряда по тринадцать карт, ты вынимаешь четырех тузов. Игра заключается в том, чтобы выложить по порядку сорок восемь оставшихся карт, используя места, освобождающиеся от вынутых тузов; если одно из этих мест — первое в ряду, ты можешь на него положить двойку; если место освобождается, скажем, рядом с шестеркой, ты можешь положить на него семерку той же масти; к семерке — восьмерку, к восьмерке — девятку, к валету — даму; если освободившееся место идет за королем, ты не имеешь права класть на него карты, и оно для тебя будет потеряно.
В этом пасьянсе везение почти не имеет никакого значения. Ты можешь задолго предвидеть момент, когда четыре освободившиеся места выкинут тебе соседство с королем, то есть проигрыш, если ты играл по порядку; но ты можешь использовать одно место, затем второе, вернуться к первому, занять третье, четвертое, снова второе. И все равно ты выигрываешь редко: всегда наступает момент, когда игра заходит в тупик, когда половина или треть карт уже пристроена, но ты уже не можешь занимать оставшиеся пустые места, поскольку неизменно попадаешь на королей. В принципе, ты имеешь право на две другие попытки: тебе достаточно оставить на своих местах уже выстроенные карты и заново раздать остальные, перемешав их, сохраняя при этом четыре интервала. Но ты не часто используешь два предлагаемых шанса: как только комбинация кажется тебе испорченной, ты смешиваешь карты, тасуешь их два-три раза и вновь раскладываешь для новой игры.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


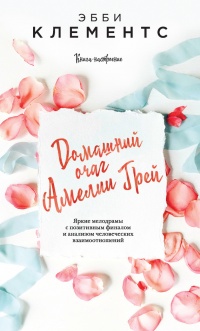


Комментарии