Сладкая жизнь эпохи застоя - Вера Кобец Страница 8
Сладкая жизнь эпохи застоя - Вера Кобец читать онлайн бесплатно
— …Дом будет на берегу океана. Полоса пляжа тянется далеко — сколько хватает глаз. Птицы кричат. Нам весь мир открыт. Помнишь, ты говорила, как страшно при мысли, что проживешь долго-долго и никогда не увидишь Южной Америки. Помнишь, ты говорила, что тебе снятся названия… Буэнос-Айрес, Монтевидео, Ла-Плата? Все это сбудется. И Париж тоже будет твоим. Мы поселимся где-нибудь в старом квартале, неподалеку от Люксембургского сада. Мы проживем в Париже полгода: с ранней весны и до осени. А потом мы поедем в Испанию. И если ты не захочешь, то не пойдем смотреть бой быков. А просто разыщем места, которые знаем по Хэму. А если Испания будет жаркой, и пыльной, и скучной, то мы отправимся в Скандинавию. Думаю, что от Мадрида до Копенгагена не больше пяти часов лета, и все там будет покрыто хрустящим сияющим снегом. Ну, что ты скажешь на это?
— Что Копенгаген чересчур близко от Ленинграда.
Обо всем этом мы говорили не раз, и сегодня уже не хочется разговоров. Все сказано, двадцать раз сказано, я люблю тебя, и сегодня ты еще здесь. А остальное не имеет значения.
Там мостик. Чтобы увидеть зал, в котором они ждут отлета, надо смотреть вниз и влево. Видно отлично, как в театре из первого ряда балкона. И даже иначе. Видно настолько отчетливо, что кажется, будто стеклянные стены наделены способностью укрупнять. Или что в зале горит сразу сотня прожекторов. И все-таки Мишку я разглядела не сразу. Странно, но мне было как-то не сконцентрироваться на поиске. Мне стало вдруг интересно разглядеть все. Их было так много, они были разные, в основном очень нарядные и элегантные. Я поняла, что, может быть, никогда прежде не видела сразу столько прекрасных людей. И умных глаз, и свежих и бодрых лиц, непринужденной жестикуляции. Это меня поразило, ведь только что, перед контролем, я всех их видела, и впечатление было иным. Отчего? Оттого что они освободились от нас? «Инна, пойдем, не надо тебе стоять здесь». Верный Малахов попытался взять меня под руку, но я увернулась и, кажется, даже толкнула его, и надо было, наверное, извиниться, но все это было неважно, я не хотела с ним разговаривать. Как в театре во время действия. Всем существом я была там, на сцене, там было тепло и красиво, и бегали дети, сплетая и расплетая узор какой-то игры. Я попыталась понять, каковы ее правила, но не сумела. Руководил всем очень крепкий светловолосый спортивный мальчик. Ему, наверное, было лет восемь, и ему явно нравилась девочка с челкой, в клетчатой юбке, в красных колготках. Как хорошо они смотрятся вместе! А лет через десять?.. Сзади меня теснили. Прижавшись боком к барьеру, я наконец-то увидела Мишку. Он сидел, положив ногу на ногу, и, чуть покачивая головой, слушал, что говорит ему очень в себе уверенный, очень красивый, очень породистый пожилой человек. Тот говорил весомо, неторопливо, но увлеченно, рот его часто растягивался в улыбке, и я отчетливо видела крупные и желтоватые зубы. Лингвист, определила я вдруг профессию человека, который рассказывал что-то моему мужу, который уже перестал быть мне мужем. Когда перестал? «Инна, пойдем, тебе нужно погреться, ждать еще долго». — «Я не замерзла. Меня сибирские белки хорошо греют. И здесь же самое интересное». — «Ну тогда хоть хлебни». Это можно. Только не глядя, чтобы не отрывать глаз оттуда, не пропустить ни секунды из тех двух часов, во время которых мне еще разрешается видеть. Да, ни секунды. А там все непрерывно меняется. Вот теперь Мишка с лингвистом смеются. Над чем смеются? Дурацкий какой-нибудь анекдот? Нет-нет, быть не может. Другое. Но что? Не узнать. Рядом с лингвистом я замечаю вдруг женщину. Лет двадцать восемь, может быть, тридцать. Дочь? Зеленый свитер с белой отделкой, идущей по рукавам и плечам. Красивый свитер, и сама красивая. Странно, как она раньше не попала в мое поле зрения. Настоящий египетский профиль. Лицо почему-то очень знакомое. Мы где-то встречались. Где? Пытаюсь сосредоточиться, но в этот момент отсмеявшийся Мишка тоже вдруг поворачивает голову и смотрит прямо на меня. Какое между нами расстояние? Сто метров? Триста? Никогда не умела определять это на глаз. Он смотрит, но он не видит меня. Актеры на сцене не могут различать лица людей, сидящих в зале. Он смотрит в упор, а я даже не понимаю, видит ли он наш мостик и нас — жалкую кучку сбившихся вместе пальто. Я перехватываю его взгляд, и нить протягивается между нами. Она проходит через аквариумное стекло, от тех оживленных и элегантных людей, которые ждут путешествия, к нам, мерзнущим на ветру. Нить натянулась, звенит, и я чувствую, как бегут по ней токи упрека и раздражения.
* * *
— Не можешь? — говорил он. — Не можешь. Скажи, а что ты могла бы? Ну, скажем, уехать в Новосибирск или хотя бы в Дубну? Могла бы? А как же? А Медный всадник? А папа с мамой? А воздух? А дождь? Тебе ведь все это необходимо. Не мучить тебя? Но кто кого мучает? Ведь то, что ты делаешь, — это шантаж. Тебя бросают? Тю-тю. Бросаешь ты. Бесстыдно и мерзко. Ты говоришь: если не будешь жить так, как велит моя мама, там, где велит моя мама, с теми, с кем велит моя мама, то никогда не увидишь меня и Темку. Так? Разве не так? Ну, отвечай же мне, Инна? Слезами отделаться легче всего, ты хочешь добиться слезами, чтобы все было так, как хочется твоей маме и тебе, соответственно, тоже. Вам хочется, чтобы я был ручной. Не может этого быть, пойми. И слушай. Если бы я был на десять лет старше, если бы у меня была язва желудка, ты, может быть, и добилась бы от меня того, что тебе нужно. Но я здоров и силен как бык, и у меня достаточно сил, чтобы прожить свою жизнь, а не тащиться по колее, вздыхая о молодости. Ты поняла?
Как страшно все это было! И временами ненависть поднималась во мне. И била фонтаном, густым и черным, похожим, наверно, на нефтяной. Казалось, Мишка уничтожал, ломал меня. И он в самом деле был очень сильным. Эта сила пугала и раздражала меня. Однажды вечером я вытащила из кладовки раскладушку, принесла в Темкину комнату и застелила. Мишка вошел, посмотрел на меня, в комок сжавшуюся под одеялом, сказал устало: «Что ж, это логично», и вышел, закрыв за собой аккуратно дверь, а я вдруг вспомнила день, когда впервые был поднят вопрос о квартире, и снова услышала, как он сказал тогда: «Я понимаю, у меня нет возражений». И вышел так же спокойно и так же устало. Фиктивный развод. Господи, ну и что тут такого? Мне все казалось тогда очень ясным и очень простым, я даже не понимала, почему отец нервничал, тщательно подбирал слова, говорил долго, сумбурно, витиевато, хотя суть дела была очевидна: нам представлялась возможность построить квартиру, для этого нужно было проделать кое-какие формальности. И мне казалось, что Мишка тоже наконец это понял, и тогда все пошло очень гладко, наступил мир. И я запрещала себе понимать, что все шло по маслу оттого только, что, приняв все условия, Мишка одновременно от всего отступился и стал далеким, недосягаемым. Эту недосягаемость я ощущала, и она меня удивляла, потом начала раздражать, и иногда я взрывалась, и, может быть, эти взрывы подготовили почву тому грандиознейшему скандалу, ведь раньше у нас скандалов никогда не было, и мы этим очень гордились, а тут случился скандал, настоящий и безобразный, и безобразно смотрелись, естественно, все. И все-таки Мишка, да, Мишка сохранял какую-то каплю достоинства и какую-то верность себе, а мы все кричали такое, чего никогда не смогли бы произнести в обычном своем состоянии, и было страшно от мысли, что, значит, по-настоящему, в глубине, в тайне, мы живем с этим диким, помоечным отношением к миру. А с чего все началось? Мама, вернувшись с работы на два часа раньше обычного, застала Мишку на кухне сидящим на столе в трусах. Рядом с ним стоял громко орущий транзистор, а он жевал бутерброд и запивал его, прямо из горлышка, «Цинандали». «Вы не были на работе сегодня?» — спросила его удивленная мама. «Нет», — сказал Мишка и, приложившись снова к бутылке, допил до дна. После чего, извинившись, что он слегка не одет, слез со стола и пошел прочь из кухни. Но мама была уже в состоянии, близком к истерике. Через час Мишка позвонил мне на дачу, и я примчалась, оставив Темку Марине, по счастью у нас гостившей. Предположение «у него была женщина» было отвергнуто, в общем-то, сразу, но легче не сделалось. «Молодой человек, мы вас впустили в свой дом…» Вот после этого Мишка и перестал выбирать выражения, но и родители как-то забыли о том, что «мы люди интеллигентные». Когда было выкрикнуто «нахлебник, альфонс, вы представляете хоть, во сколько обходится вас содержать», это уже и по мне, и я была внутренне на стороне Мишки, когда он сказал: «Что ж, Григорий Борисович, если я задолжал вам, то, будьте добры, предъявите мне счет, я со временем заплачу», а потом, сдернув с себя французскую майку, которую мама недавно купила ему в сертификатном магазине, швырнул ее на пол: «На это вы тоже потратились. Но я почти не носил ее, и, постаравшись, вы можете полностью возвратить себе деньги». Мама хватала ртом воздух, Мишка навис над ней как гора. «Ты хоть понимаешь, что делаешь, ведь они старики, — крикнула я в исступлении, и меня понесло: — Все вы сволочи! Всех ненавижу, всех, всех!» Мама заплакала, громко, со всхлипами, и, опустив голову, быстро пошла к себе в комнату, отец — за ней, на ходу доставая таблетки, хватаясь рукой за грудь. Мы с Мишкой стояли друг против друга, и я понимала: сейчас он уйдет. Жизнь без него прокрутилась перед глазами. Мы все еще так и стояли посреди кухни, когда мама вошла с дрожащим лицом, сказала мне — Мишки как будто и не было: «Если с отцом сейчас что-то случится, то виновата во всем будешь ты, только ты». Мишка подошел к крану, налил воды в стакан, протянул ей. «Спасибо», — сказала мама почти машинально. И, как ни странно, эта история прошла почти без следа. Что-то непоправимое произошло уже раньше, что-то пока стояло на очереди. А мы жили. В четком устоявшемся ритме, но я все напряженней ждала момента, когда готова будет квартира, когда мы наконец переедем, когда у Мишки, у Темки и у меня будет свой дом и мы будем в нем жить припеваючи. Иногда ожиданье казалось растянутым, как резинка, и становилось тоскливо, но я не давала себе раскисать. План нашей квартиры был вычерчен у меня на картоне, и, когда падало настроение, я доставала его украдкой из ящика и развлекалась, переставляя и так и этак вырезанную из ватмана мебель. И еще снова и снова считала недели, дни… А переехали мы в канун дня рождения Темки. И, боже, какой это был день рождения! «Довольна? — спрашивал Мишка. — Счастлива? Все хорошо?» И я кивала, и только на третьем кивке поняла, что все это — с иронией и с подвохом. Я посмотрела на Мишку внимательно. У меня в голове все плыло. От вина, от усталости, от впечатлений. Его лицо надо мной было очень красивым, и скорбным, и нежным. У меня сердце ударило дважды «тук-тук» и закатилось куда-то от страха, от восхищения. «А я ведь все тот же альфонс, — сказал он, и мне показалось: все это мне снится. — Твой папа прав. Я приживальщик, альфонс. Сейчас еще больше, чем раньше». «О чем ты?» Мне показалось, что он не слышит себя, но он отчетливо слышал. «Я поселился в квартире, купленной и обставленной твоим папой, и в день рождения сына я угощаю друзей коньяком, приобретенным на средства, почерпнутые все из того же источника». — «Но ты же не виноват, что защиту откладывают по идиотским причинам!» «Ты знаешь, — сказал он, — я подсчитал. Банкет, который будет устроен в связи с защитой, когда она наконец состоится, выльется рублей в триста — четыреста, то есть в ту сумму, которую я своей кандидатской надбавкой едва ли высижу за год, а там придет пора праздновать что-то еще: например, юбилей нашей свадьбы». — «Но ведь мы можем ничего этого не устраивать». Он улыбнулся углами губ: «Нет, моя киса, не можем». И тут мне стало обидно до слез: «Как ты умеешь все вывернуть наизнанку! Ведь было так хорошо!» Он внимательно посмотрел на меня: «Прости, Инка, — сказал он. — Прости, все и вправду отлично».
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

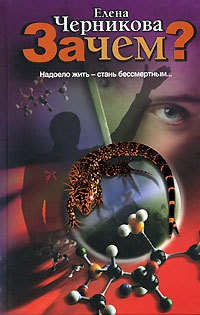

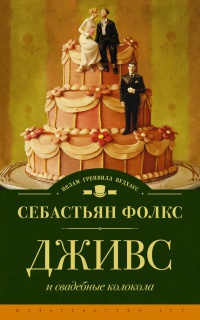

Комментарии