Левый полусладкий - Александр Ткаченко Страница 8
Левый полусладкий - Александр Ткаченко читать онлайн бесплатно
И мальчик пришел и сказал: «Я ухожу жить к папе»… И это разорвало Либи, разломало пополам, она сидела искореженная, как после взрыва, курила сигарету и пыталась глотнуть кофе из дрожащей чашки. И я понял, что потерял Либи навсегда. Однажды я пришел домой и застал нашу обитель опустошенной. И я понял, что нет любви сильней, чем любовь к сыну или дочери, что любовь по крови сильнее, чем любовь по духу, что секс — это ложь, это подмена чего-то более важного, хотя и облачается он в одежды самые яркие и, видимо, тоже бессмертные. Я упал головой в тупую подушку и еще больше возлюбил Либи за ее любовь к сыну. И я еще больше возлюбил мальчика за его любовь к отцу, большую, чем ко мне. И как Либи вообще могла жить, разрываемая, словно магдебургскими кольцами, силами двух самых противоречивых чувств — любви к родному и любви к родному, но чужому. И этот выбор меж мною и мальчиком в пользу его так поразил меня и так как-то смирил, что я усомнился в избранном мною пути и том, во что я верил. Либи бросила себя в жертву, зная, что ничего хорошего ей это не принесет, что нельзя дважды в жизни жить с одним и тем же мужем, и все же… Я выводился из игры навсегда — либо она лгала, что ей со мною было хорошо, либо врала, что ей было совсем плохо с ним.
Либи загорала сразу и на все лето, осень и даже часть зимы, только к весне ее тело становилось естественно смугловато-белым. Самым красивым в эти времена был ее клин черных волос ниже пупка — такой небольшой шерстяной фартучек, прикрывавший вход в ее вырез, связывающий меня с ее внутренним миром, — иногда я думал, что вижу ее голубые легкие, розовые почки, бьющееся, словно море, равномерное сердце, — раскрывая ее ноги так, что они становились похожими на знак ночного метро, чтобы целовать, я видел такую глубину жизни, словно стоял у истоков мироздания на берегу первобытного океана, где все цеплялось друг за друга, входило и выходило, маховики и маховички двигали и двигались, и волны насыпали холмики грудей вокруг Либи и разбрасывали волосы на самые беззащитные места, ее подмышки, голову и ниже пупка, — все произрастало изнутри, и мне казалось, что я мог дотянуться до корней ее возникновения. Либи лежала, откинув голову за подушку, и я слышал только сладкое прерывистое дыхание некоего странного существа, я вздрагивал и вопил: «Либи, это ты?» Она смеялась откуда-то издалека, но так, что я успокаивался.
Каждый раз все было, как всегда, и каждый раз все по-новому — ну когда же я пойму, что у всех все одинаково и кончается одним и тем же — никогда, — у всех все не одинаково и кончается не одним и тем же, и каждый раз надежда, что ты поймаешь этот оттенок великой тени, и самое главное — что я ловил его. Либи летом ничего не носила под юбкой, и знание этого так заводило меня. «Смотри, залетит какой-нибудь блуждающий форвард в твои воротики, что делать будем», — шутил я. «Один уже, кажется, прорвался». Либи косилась на меня: «Кажется, я подзалетела». Пять или шесть раз за эти годы она куда-то исчезала и появлялась опустошенной, вывернутой наизнанку, и с еще большей страстью мы набрасывались друг на друга. Это вымотало ее вконец, почему-то мы боялись заводить второго ребенка, и этим не закольцевались с Либи, с ее мальчиком и мною. Между нами был разрыв глубиною вины перед прошлым и мальчиком, который все больше взрослел и привыкал к отцу. «Я ухожу к папе» было сказано так по-детски бесхитростно, наивно и точно так же жалостно, что обезоружило нас. И Либи не выдержала. Началось расставание, долгое, мучительное, с возвратами и уходами снова, но расставание. Наконец, Либи ушла к матери, забрав с собою даже иголки с нитками, — она рвала со мною жестоко, становясь непохожей на себя. Порой была чудовищем, и все для того, чтобы я возненавидел ее.
Итак, опять свобода, дикая, обидная, желанная и ненавистная свобода одинокого мужика-волчары, рыскающего в дебрях заброшенного города в поисках свободной, никем не занятой женской плоти. Снова ночные и полдневные шатания в поисках на жопу приключений, снова появились желающие посидеть на кухне со случайно встреченной двоюродной тетей или братишкой. Я запил немного, загулял, но от этого стало еще гнуснее на душе, и я ударился в кроссы, футбол, благо стадион был рядом с домом Либи. Она не звонила мне и, по донесениям ее подруг, даже не интересовалась моей судьбой — как будто умер, злился я.
Неужели даже голос плоти не позовет или… Каждый свой день я строил так, чтобы неожиданно встретить Либи, но она исчезла, ее ножки отщелкивали сотни метров вдалеке от моих дорожек, хотя ходили мы совсем рядом. Я хотел встретить ее, сказать что-то гневное о предательстве, наконец, дать пощечину, такую красивую, но потом размякал и мечтал только о том, что, встретив ее, утащил бы к себе домой и там в постели мы конечно бы помирились, однако время шло, и я не встречал ее нигде, Либи исчезла сама, хотя всегда боялась, что исчезну я…
И все-таки свобода мужчины коварная вещь, хотя бы потому, что ведет, как всегда, к женщине, другой, женщине-заменительнице, к такому суррогату, который ты морщась, но пьешь… В книжном магазине я разговорился с давней знакомой, вдруг легко согласившейся зайти ко мне после работы в гости, я назвал только адрес и, не надеявшись, ждал часов в восемь июльского, вздыбленного солнцем вечера. Но она пришла, и тут же я раздел ее, неожиданно обнаружив, что ее тело было шикарным, хотя внешне это было невыразительно, мы успели сделать кое-что друг с другом, и я подумал, что предстоит ночь с женщиной, которая даст мне возможность забыться, утонуть в ней, и только утром очнуться, как рыба в руках нового омерзительного жаркого дня — ловца одиноких душ и притворно страдающих мужских особей… Я втирался в бедра продавщицы книг все глубже и глубже и вдруг понял, что в дверь кто-то тыкается ключом снаружи; мой ключ был в замке изнутри, второй был только у Либи. Боже, это была она, я затих и ушел вместе с прелестницей совсем на дно, задрожал, как магнитная стрелка вблизи железной руды, распял себя на гвоздиках предназначенной не мне нежности. «Открой, я знаю, что ты дома, мерзавец!» Да, это была Либи, я вытянулся на перепуганной даме и бесшумно вскочил, подойдя к двери, — сейчас уйдет. «Открой, я знаю, что ты там, скотина, открой, подонок, ты всю жизнь мою сломал». — «Ты же ушла сама, — ответил через дверь, — я имею право». — «Да какое право, ты же животное, открой». — «Да я тут не одни, у меня серьезный разговор», — начался стук в дверь, и я совсем ополоумел, я открыл дверь. Либи влетела и сразу же вонзилась в волосы продавщицы букинистического магазина, но та как-то ловко вывернулась и сбежала по лестнице, Либи начала хлестать меня по щекам, по шее, по спине, я пытался перехватить ее руки, когда из моего носа показалась кровь, она остановилась, подошла к столу, подняла пишущую машинку «Олимпия» над головой и грохнула об пол, буквицы клавиш разлетелись по всем углам. После ремонта машинка долго еще заикалась, печатая. Рукописи летали под потолком и медленно опускались, как пепел сожженного города. Затем Либи подошла к полкам с тремя хрустальными вазами, спутницами моей прошлой футбольной славы, и расколотила их одну за другой. Разбиваясь о паркетный пол, они брызгали, как ледяные океанские волны, по углам и стенам комнаты, вонзаясь осколками в дешевую лакированную мебель и дерматиновые переплеты книг. Потом Либи вдруг обмякла и расплакалась, мы плакали вместе, долго не утешаясь, в теперь уже тихой истерике, потом неожиданно начали вместе убирать следы пиршества страсти, стыда, ужаса и, вероятно, любви. Проснувшись вместе, рано вышли в утренние улицы, и я пошел провожать Либи домой. Мы говорили о чем-то, но не слушали друг друга, подсознание было испугано разрывом, нечеловеческой истерикой, и каждый думал о своем. Мы шли по раннему городу, небо разворачивалось над нами желто-красным цветом с единственным ноготком умирающей луны, ласточки, стрижи сопровождали щебечущим кортежем нас, одиноких на зеленых июльских улицах, и это было похоже на похоронную процессию нашей любви.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



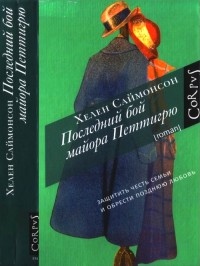
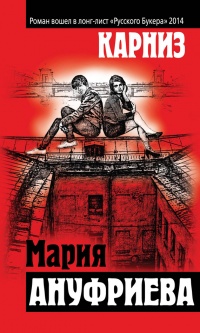
Комментарии