Роман с кокаином - Михаил Агеев Страница 8
Роман с кокаином - Михаил Агеев читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
В первые затем минуты я испытывал некоторую смутную неприязнь к Штейну. Однако неприязнь эта быстро прошла, поскольку я сообразил, что если бы тогда, — во время перемены, — когда приходила в гимназию с конвертом моя мать, и я, поступив точно так же, как и Штейн, — отрекся от нее, полагая, что тем самым спасаю свое достоинство, — что если бы тогда к нам подошел бы тот же Буркевиц и сказал бы мне, что негоже сыну совеститься и отрекаться от своей матери только потому, что она старая, уродливая и оборванная, а что должно сыну любить и почитать свою мать, и тем больше любить, и тем больше почитать, чем старее, дряхлее и оборваннее она, — если бы случилось тогда во время перемены нечто подобное, то весьма возможно, что те из гимназистов, что спрашивали меня о шуте гороховом, и согласились бы с Буркевицем, и, может быть, даже поддакнули бы ему, — но я-то, я-то сам уже конечно испытывал бы этот стыдный момент, не столько навязываемую мне каким-то посторонним любовь к моей собственной матери, сколько вражду против этого вмешивающегося совершенно не в свое дело человека.
И, движимый этой общностью чувств, я подошел к Штейну и, крепко и тесно обняв его за талию, пошел с ним в обнимку по коридору.
За две недели до начала выпускных экзаменов, в апреле, когда война с Германией бушевала уже полтора с лишним года, все близко окружавшие меня гимназисты, а в том числе и я, потеряли к ней решительно всякий интерес.
Я еще хорошо помнил, как в первые дни объявления войны я был очень взволнован, и что волнение это было чрезвычайно приятным, молодеческим и, пожалуй, даже просто радостным. Целый день я ходил по улицам, нераздельно смыкаясь с — точно в пасхальные дни — праздной толпой, и вместе с этой толпой очень много кричал и очень громко ругал немцев. Но ругал я немцев не потому, что ненавидел их, а потому только, что моя ругань и брань были тем гвоздем, который, чем больше я его надавливал, тем глубже давал мне почувствовать эту в высшей мере приятную общность с окружающей меня толпой. Если бы в эти часы мне показали бы рычаг и, предложив его дернуть, сказали бы, что при повороте этого рычага взорвется вся Германия, взорвутся покалеченными, что при повороте этого рычага ни единого немца не останется в живых, — я бы не задумываясь дернул бы за этот рычаг, а дернув, с приятностью пошел бы раскланиваться. Слишком я уж был уверен, что если такое было бы осуществимо и осуществлено, то эта толпа исступленно, дико ликовала бы.
Вероятно, именно это духовное соприкосновение, эта сладенькая общность с такой толпой, помешали моему воображению взыграть тем образом, который возник во мне через несколько дней, когда, лежа в темной комнатенке моей на диване, представилось мне, что на помосте посередине большой площади, заполненной толпой, приводят мне белого германского мальчика, которого я должен зарубить. — Руби его, — говорят, нет, приказывают мне, — руби его на смерть, руби по башке, руби, ибо от этого зависит твоя жизнь, жизнь твоих близких, счастье, расцветы твоей родины. Не зарубишь — будешь наказан жестоко. — А я, глянув на белокурое темя этого немецкого мальчика и в его водянистые и умоляющие глаза — отшвыриваю топор и говорю: — воля ваша, я отказываюсь. И заслышав мой ответ, этот мой жертвенный отказ, толпа, дико ликуя, хлещет в ладоши. Таково было мое мечтание через несколько дней.
Но как в моем первом представлении, где, простым поворотом рычага уничтожая шестьдесят миллионов людей, я руководствовался отнюдь не враждой к этим людям, а только тем предполагаемым успехом, который выпадал бы на мою долю, сверши я нечто подобное, — так точно в моем отказе зарубить этого стоящего перед моими глазами мальчика я руководствовался не столько страхом пролития чужой крови, не столько уважением к человеческой жизни, сколько стремлением придать своей личности ту исключительность, которая тем больше возвышалась, чем большее наказание ожидало меня за мой отказ.
Уже через месяц я остыл к войне, и если, с подогретым восхищением читая в газете о том, что русские побили где-то немцев, приговаривал при этом: так им и надо, сволочам, зачем полезли на Россию, — спустя еще месяц, читая о какой-нибудь победе немцев над русскими, точно так же говорил: так им и надо, сволочам, не лезли бы на немцев. А еще через месяц вскочивший у меня на носу чирей бесил, заботил и волновал меня если не больше, то уж во всяком случае искренне, чем вся мировая война. Во всех этих словах, как — война, победа, поражение, убитые, пленные, раненые — в этих жутких словах, которые в первые дни были столь трепетно живыми, словно караси на ладонях, в этих словах для меня обсохла кровь, которой они были писаны, а обсохнув, превратилась в типографскую краску. Эти слова сделались как испорченная лампочка: штепсель щелкал, а она не вспыхивала, — слова говорились, но образ не возникал. Я уж никак не мог предполагать, что война может еще искренне волновать людей, которых она непосредственно не затрагивает, и так как Буркевиц вот уже три года совершенно не общался ни со мной, ни вообще с кем-либо в нашем классе, то мы вследствие сего и не могли, конечно, знать его мнений о войне, будучи, впрочем, уверены, что оно никак не может быть иным, чем наше. То обстоятельство, что Буркевиц не присутствовал в актовом зале во время молебствия о ниспослании победы, было вообще не замечено, и вспомнили об этом только уже после происшедшего столкновения, — касательно же его постоянного манкирования уроков по изучению военного строя, введенного в гимназии вот уже несколько месяцев, то это было толкуемо то ли его нездоровьем, то ли нежеланием отдавать свое первенство, хотя бы физическое, посредственному Такаджиеву, оказавшемуся замечательно ловким и сильным парнем. И присутствуя при этом ужасном столкновении, я в своем невежестве даже не знал, что слова, говоримые Буркевицем, — это только тот гром от той молнии, которая вскинулась вот уже много десятков лет тому назад из дворянского гнезда Ясной Поляны.
В нашем выпускном классе был пустой урок. Заболел и не явился словесник, и наш класс, стараясь не шуметь, дабы не потревожить занятий в шестом и седьмом классах, наружные двери, которых выходили в это же отделение, тихо бродил по коридору. Начальства не было. Классный наставник, полагаясь на нас, которых он теперь называл — без пяти минут студенты, — отлучился в классную нижних этажей. Настроение у большинства было приподнятое: через десяток дней начинались выпускные экзамены — последний гимназический этап.
У большого трехстворчатого окна, что у самой двери, собралась небольшая группа гимназистов с Ягом посередке, который о чем-то тихо, но оживленно рассказывал. Кто-то из окружающих, возражая, прервал Яга, но Яг, видимо обозленный, забыв о необходимости говорить полушепотом, громким окриком выругался матерно.
В это самое мгновение большинство уже заметили, в чем дело, и вся группа начала перестраиваться из круга лицом к Ягу, — в полукруге лицом к гимназическому батюшке. Никто, однако, не слыхал, когда и как он вошел в дверь.
— Как вам не стыдно, дети, — сказал он, выждав, пока все заметили его присутствие, и обращаясь ни к кому, и потому ко всем, своим укоризненно-сладковатым, старческим голосом. — Подумайте о том, — продолжал он, — что через несколько лет вы уже войдете полновластными гражданами в общественную жизнь великой России. Подумайте о том, что те унижающие слова, которые я имел здесь несчастье слышать, ужасны по своему смыслу. Подумайте о том, что, если смысл такого ругательства и не доходит до вашего сознания, то это не оправдывает, а еще больше вас осуждает, потому что доказывает, что эти ужасные слова употребляются вами ежечасно, ежеминутно, что они — эти слова, перестав быть для вас ругательством, стали изобразительным средством вашей речи. Подумайте о том, что вам выпало счастье изучать музыку Пушкина и Лермонтова и что этойто музыки ждет от вас наша несчастная Россия, этой и никакой другой.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
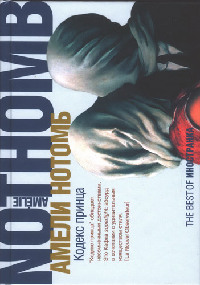




Комментарии