Повесть о двух головах, или Провинциальные записки - Михаил Бару Страница 7
Повесть о двух головах, или Провинциальные записки - Михаил Бару читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
* * *
Еще и льда на речке нет никакого, еще и отопительный сезон только начался, и сосед сверху день и ночь стучит по батарее, чтобы выбить из нее застрявший пузырь воздуха, еще жена только думает сказать насчет новых зимних сапог и все никак не решит, в какую руку удобнее взять скалку для разговора, а рыбак уже сам не свой. То унты свои меховые с антресолей достанет, чтобы осмотреть их на предмет моли, то бур, сделанный из самой что ни на есть твердой ледокольной стали, наточит напильником до бритвенной остроты, то ящик для снастей покрасит в двадцать пятый или даже в двадцать шестой раз самолучшей финской водостойкой краской, то вытащит с нижней полки холодильника влажную тряпицу, развернет ее, пересчитает драгоценного мотыля и, обнаружив недостачу трех личинок, устроит выволочку жене и на всякий случай собаке. Сны у рыбака в то время серебристые от чешуи вылавливаемых окуней или красноперок. Но спит он плохо – часто просыпается от храпа треска неокрепшего молодого льда и со страху хватается за что попало.
Получив затрещину от жены, идет на кухню покурить, успокоиться и заодно проверить, как там мотыль, мешок с подсолнечным жмыхом для подкормки, не выдохлась ли… Только одной бутылки может и не хватить, если вдруг ударит сильный мороз, или клев будет такой, что не отойти сутки через трое, или сосед как в прошлый раз поймает огромную щуку, и ее придется обмывать втроем, чтобы успеть к концу отпуска… Тут рыбак просыпается, видит, что уже давно утро и на кухню входит жена поговорить о покупке новых зимних сапог. Вернее, догадывается. По скалке в ее правой руке.
В октябре, в Ярославле, в сумерках вода в Волге сиреневая. Над водой, в сиреневом воздухе, летают в разные стороны и разбиваются на множество острых осколков стеклянные крики чаек, на набережной горят желтые и белые фонари, под одним из которых стоят влюбленные и целуются. У их ног сидит не шевелясь бездомная собака и завороженно смотрит им в рты, надеясь, что вот-вот они разомкнутся и из каждого, или хотя бы из одного, выпадет сахарная косточка, а, может быть, и сосиска. Мимо влюбленных, мимо увитой гирляндой синих лампочек башни речного вокзала, мимо ротонд с белыми колоннами и черными чугунными решетками, увешанными новобрачными замками, мимо мамаш с колясками, мимо папаш с пивом, мимо плавучей хохочущей и поющей караоке гостиницы «Волжская жемчужина», мимо огромного белого корабля Успенского собора изо всех сил плывет по реке маленький зеленый буксир. Из тонкой, точно детская шея, трубы буксира поднимается к темному небу в клубах черного дыма такой толстый и басовитый гудок, что можно голову сломать, пытаясь представить, как он помещался внутри этого почти игрушечного суденышка. Откуда-то из сгустившейся темноты хрипло гудит буксиру в ответ огромная черная баржа, с черной нефтью в трюмах и кокетливым разноцветным фонариком на необъятной корме. Дым из трубы буксира вытягивается в струнку, точно поводок у какого-нибудь фокстерьера при виде кавказской овчарки, кораблик вздрагивает всем корпусом, но продолжает путь.
От старого допотопного Пучежа мало что осталось. Когда в пятидесятых решили устроить в тех местах Горьковское водохранилище, жители соседнего с Пучежем Юрьевца написали письмо Сталину. Просили не затапливать. Жители Пучежа ничего не писали – то ли надеялись на то, что как-нибудь все само собой рассосется, то ли знали, что надеяться не на что. Потому и остался от старого города лишь небольшой участок под названием «Завражье» с полуразвалившимися домиками. Весь остальной старый Пучеж, все его четыре сотни лет истории, находятся на дне водохранилища и в городском краеведческом музее, в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Советской.
Остались берестяные короба, туески, расписные донца прялок, на которых умельцами из Городца изображены девичьи грезы в виде прекрасных женихов с усами, в костюмах, лихо заломленных фуражках, на резвых рысаках, и по краю цветочки, голубки, снова цветочки и снова голубки. На одном из донцев написано: «На часы не смотри – папиросочку кури».
С тех пор много воды утекло в Волге, но девичьи мечты не претерпели существенных изменений. Что же до возможности курить папиросочку и не смотреть на часы… Хоть я и не девица вовсе, а завсегда и с удовольствием.
В соседней комнате за стеклом лежат маленькие пушечки, которые устанавливались на купеческие суда для защиты от разбойников, и к ним горсть ядер размером с крупные фрикадельки. Тут же рядом висит и орудие труда противной стороны – кистень.
Чуть дальше висит несколько фотографий – купеческий ресторан на набережной и угол дома, кирпичи которого протерты веревками бурлаков. Дом стоял как раз в том месте, где Волга делала поворот. Бурлаки заходили за угол и тянули чалки (так правильно назывались бурлацкие веревки) за собой… Сейчас бы эти кирпичи туристам трогать. Придумать бы легенду о том, что тот, кто коснется этих кирпичей, будет всю жизнь лямку тянуть сильным и выносливым, как волжский бурлак. Вот только для того, чтобы их коснуться, надо быть водолазом. Все это теперь на дне водохранилища. А может, и на дне нет – перед затоплением многие здания разрушили.
Если уж составлять подробный реестрик остатков допотопного Пучежа, то надо в него вписать десяток толстенных железных гвоздей с большими шляпками, медные, начищенные до блеска наконечники пожарных брандспойтов, книжечку устава общества трезвости, пустую бутылку из-под «Московской очищенной», почтовые разновесы позапрошлого века, жестяную коробку монпансье московской фабрики Жукова, коробку из-под самарской ореховой халвы торгового дома Косолапова и Решетникова, бензиновую зажигалку времен Первой мировой, лампочку… нет, лампочка уже из другой, послепотопной жизни. Строго говоря, и та, послепотопная, жизнь тоже закончилось. Какая теперь жизнь – сам черт не разберет. Если составлять подробный реестрик остатков… льнопрядильная фабрика, устроенная еще в позапрошлом веке промышленником Сеньковым, приказала долго жить; еле дышит маленькая строчевышивальная фабрика; зарплата научного сотрудника музея вместе со «стимулирующими надбавками» составляет четыре тысячи триста рублей в месяц. Это если цифрами, а прописью – просто пиздец, причем такой полный, что ему уже пора лечиться от ожирения. Директор музея в тот день, что я в нем был, с самого утра бегала в администрацию и к местным бизнесменам выпрашивать хоть немного денег на то, чтобы устроить праздничное чаепитие ветеранам в музее. Не выпросила.
В третьем и последнем зале увидал я выставку репродукций картин Рериха. Музей устроил ее для школьников. Самое сложное, по словам музейного сотрудника, уговорить учителей, чтоб они приводили детей на выставку. Неохота учителям этим заниматься. Мало того что надо детей привести, так еще и собери с них по десять рублей на билет.
Перед выходом из музея заприметил я картину. Мужики и бабы с мешками на спине бредут куда-то под палящим солнцем по берегу Волги. Оказалось, что картина эта написана аж в восемнадцатом году. Мужики и бабы – мешочники. Набивали они мешки хлебом и подавались в Петроград или в Москву.
Меняли хлеб на нитки с иголками, швейные машинки, патефоны, примусы… Теперь в Москву едут налегке, без мешков. Без хлеба едут. В надежде на него заработать.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
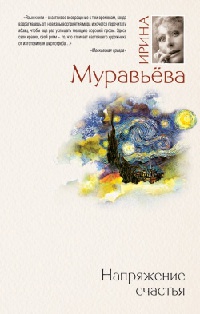


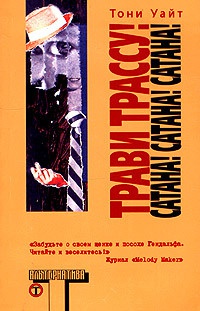

Комментарии