Дай лапу - Геннадий Абрамов Страница 7
Дай лапу - Геннадий Абрамов читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Январский день, по диковинному совпадению, до деталей походил на тот декабрьский, когда он поздним вечером зацепился лапой за колючую проволоку, повздорил с глупым и злым человеком и угодил под нож. Такой же серый, низкий, с набрякшими тучами, сухим колючим морозным ветром и выпавшим накануне обильным снегом, с которым и теперь яростно сражались уборочные машины. Под колесами, когда ехали, чмокало, чавкало и клокотало, разлетались по сторонам бурые жирные брызги.
Въехав на пустырь насколько это было возможно, хозяин остановил машину неподалеку от их дома и выпустил его погулять. Поднял, вынес и поставил в снег. Сказал:
— Разомнись.
А он стоял и не двигался. Как будто лапы его отвыкли, разучились ходить.
Мелко подрагивая спиной и боками, стоя на тощих, ссохшихся лапах, он отуманенными глазами грустно, заново узнавая мир, смотрел прямо перед собой на чернеющие дома, светлые квадратики окон, столбы, фонари и снег. Ощупав носом морозный воздух, пахнущий привычным жильем и свободой, медленно выпрямив шею, он попробовал шагнуть, переступить и сразу понял, что ему предстоит учиться всему этому заново. Он дернулся, неуклюже-тяжко вытянул переднюю лапу и снова встал.
— Взбодрись, дружище, — услышал он голос хозяина. — Жди здесь, мне надо позвонить.
Вытянув морду, он какое-то время смотрел вслед удаляющемуся хозяину. Потом лизнул снег, прогнул спину и сел, выставив вперед неживую, негнущуюся ногу.
Истоптанная дорожка. Справа и слева рыхлый свежий высокий снег — как будто даже и не подрос, пока он отсутствовал. Следы глубокие, но небольшие, должно быть, дети играли, школьники, когда возвращались домой. Чуть дальше — старая снежная баба, ее еще до разлуки соорудили, и всё стоит, не сломали, побуревшая, заледенелая, понизу в свежих обливах. А вон прутик торчит, у которого обыкновенно останавливался, штабель забытых строителями плит, и по ним лазили дети, забор, куда нельзя, не разрешают, и липа, у нее корни близко, за ней канавка и взгорок, и там, вдали, прячась за сугробами, купается и тонет в снегу старый забытый грузовик.
— Ну? Нагулялся?
Хозяин энергично прошел мимо него, не задерживаясь, и его обдало, как ветром, человеческой раздражительностью.
— Я в машину. Идешь?
Он неторопливо поднялся на три свои лапы и повернул голову.
— Не могу смотреть на тебя. Прости.
Хозяин поднял его на руки и затолкал в машину.
Стоя сзади между сиденьями, он чувствовал, что хозяин какой-то странный сейчас, непохожий на себя, раздраженно-задумчивый, подавленный чем-то. Он и припомнить не мог, когда бы тот просто так сидел более минуты, неподвижно, без дела, никуда не спеша. Прежде он не видел его таким молчаливо-озадаченным, будто бы потерявшим привычный интерес, забывшим вдруг про свои бесконечные ближние и дальние цели, которые когда-то ненасытно преследовал.
— Знаешь, — медленно произнес Глеб Матвеевич вслух. — Я сейчас говорил по телефону. С Виктором. Врачом, который тебя оперировал. Просил укол. Для тебя, приятель. Извини. Но это пришло мне в голову. Виктор накричал на меня. Мы крепко поссорились…
Не дослушав, он заскулил.
Он понял. Он ждал. Он догадывался, знал это.
Царапнул лапой пол и оторвал зубами кусок болтавшегося чехла. И захрипел — от тоски, от удушья. Всем телом задергался, как от подступившей сильной тошноты. На губах его повисла пузырившаяся белая пена.
Перегнувшись через сиденье, Глеб Матвеевич открыл заднюю дверцу и осторожно вытолкнул Бурбона наружу.
Пес неловко покачнулся и встал. Из горла его рвался свистящий хрип, спина крупно изгибалась, живот сокращался резко, толчками.
Глеб Матвеевич вышел из машины и растерянно склонился над ним.
А он замотал головой, разбрасывая с губ пену. Передние лапы его надломились, он клюнул мордой в сугроб и, скрутив шею, застыл, обмяк.
— Папка! Бурик! Я здесь!
Глеб Матвеевич поднял голову.
К ним бежал Денис — крупно, спеша, радуясь. Он бежал и придерживал подпрыгивавшую на бедре наплечную сумку.
Обогнув стоящую на обочине машину, ломко плюхнулся перед псом на колени.
— Бурик мой… Здравствуй… Приехал… Вернулся. Ну, здравствуй.
Говорил он, хотя и запышливо, но ласково, нежно, и гладил пса по спине, почесывал у него за ушами.
Бурбон приподнялся. Неуклюже оперся на здоровую заднюю лапу и вопросительно, кротко взглянул сначала на Дениса, а потом на Глеба Матвеевича.
— Ничего, Бурик. Всё нормально. Оклемаемся, — говорил Денис. — Поправишься. Я тебя никому не отдам. Согласен? Нет возражений? Теперь я за тобой буду ухаживать.
— Кажется, ожил, — сказал Глеб Матвеевич. — Думал, богу душу отдаст.
— Да что ты, па? Он крепкий. Правда, Бурик? Ты ведь не подведешь? А?
— Без меня тут справишься? — спросил Глеб Матвеевич. — Пойду машину поставлю.
— Да-да, иди. Я сам его принесу.
Бурбон печально, прощаясь, смотрел, как Глеб Матвеевич садится в машину и отъезжает, чтобы припарковаться.
— Встать можешь? — спрашивал Денис, поглаживая Бурбона. — Помочь?… Давай вместе… Ага, вот так… Хорошо… Бурик… Бурик мой… Бурик…
Пес поднял согнутую в локте лапу. Помедлил.
И сделал навстречу новому хозяину первый робкий шаг.
Работал Колобков сервис-менеджером в небольшой компьютерной фирме. К тридцати годам был всё еще холост, и в ближайшее время обзаводиться семьей не собирался. Однообразным и скучным одинокое свое существование он считать решительно отказывался. Любил одиночество и полагал, что у каждого человека одиночества должно быть столько, сколько он сам хочет.
— Кругом столько необязательного, навязанного общения, — сетовал он, — что это уже проблема — остаться одному.
Колобков предпочитал проводить отпуск на даче. Заграничные курорты, путешествия, шумные компании, в отличие от большинства своих сверстников, он недолюбливал. Ему по душе было тихое Подмосковье. Многолюдный шумный город его угнетал, он уставал от его суеты и неразберихи.
Если всё складывалось удачно, то для отпуска выбирал он непременно сентябрь, лучше середину или конец, когда его пожилые родители и сестра Маша с трехлетним сыном перебирались окончательно в город. В это время в Подмосковье, как правило, наступало бабье лето или, во всяком случае, нежаркая мягкая погода, которая его более чем устраивала. Листья на деревьях желтели, лес был невероятно красив. Некричащее пышное разноцветье, беззаботность и тишина сами располагали к одиночеству.
Свободными днями, проведенными на природе, Колобков очень дорожил. Он старался сделать всё от него зависящее, чтобы никто его напрасно не беспокоил и ничто постороннее ему не мешало. Запрещал себе думать о работе и доме, о друзьях-приятелях, о нерешенных проблемах и уж, тем более, о пустых городских развлечениях. Намеренно отключил мобильный телефон, не смотрел телевизор, не слушал радио, ноутбук оставил в Москве, чтобы сестра по вечерам могла раскладывать свои любимые пасьянсы. В общем, как он сам это называл, старался жить растительной жизнью. Если небо вдруг хмурилось, капал дождь, и за окном было сыро и холодно, топил печь и сидел у огня. Сам себе готовил еду и гулял по лесу — в хорошую погоду трижды в день, утром, после обеда и вечером. В сумерках на участке разводил небольшой костер и подолгу сидел и смотрел на огонь, думал о всякой всячине, о каких-нибудь пустяках. Перед сном иногда просматривал глупенькие иллюстрированные журналы, до которых Маша была большая охотница, или читал что-нибудь, непременно легкое, не волнующее ни сердце, ни ум, лучше всего какую-нибудь научно-популярную брошюрку. Через день или два Колобков ездил на велосипеде в деревенский магазин, чтобы купить йогурт, хлеб, яйца (остальные продукты раз в неделю привозила ему Маша из города). И очень был доволен собой и такой своей жизнью.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

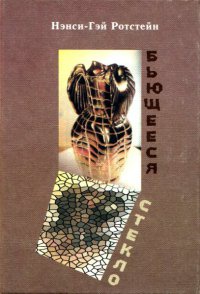
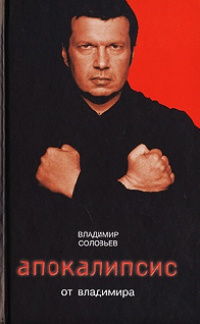
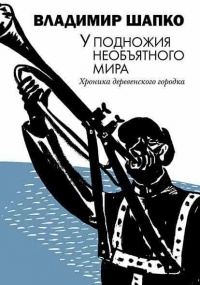

Комментарии