Нечего бояться - Джулиан Барнс Страница 7
Нечего бояться - Джулиан Барнс читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Я никогда не хотел ощутить вкус дула во рту. В сравнении с этим мой страх смерти незначительный, рациональный, практичный. Собрать новый «лимонный стол» или ужин, как в «Маньи», будет непросто еще и потому, что некоторые из присутствующих могут начать состязаться. Чем страх смерти как тема для мужского бахвальства хуже машин, денег, женщин или размера члена? «Просыпаетесь по ночам в холодном поту от собственного крика — ха! — это детский сад. Вот когда начнется…» Так что наши интимные переживания могут оказаться не только банальными, но маломощными. МОЙ СТРАХ СМЕРТИ БОЛЬШЕ ТВОЕГО И ВСТАЕТ ЧАЩЕ.
С другой стороны, это был бы один из тех случаев, когда в споре о мужских достоинствах гораздо приятней проиграть. В осознании смерти есть и такое утешение: всегда — практически всегда — найдется кто-нибудь в еще худшем положении, нежели вы. Не только Р., но и наш общий друг Дж. Он многолетний обладатель золотой медали танатофоба, поскольку пробудился этим самым réveil mortel в четыре года (в четыре! вот сволочь!). Эта новость так сильно поразила его, что он провел все детство в компании вечного небытия и ужасающей бесконечности. И теперь страх смерти преследует его гораздо сильнее, чем меня; кроме того, он чаще подвержен депрессиям. Есть девять базовых критериев Серьезного Приступа Депрессии (от Подавленного Состояния На Протяжении Почти Всего Дня через Бессонницу и Ощущение Бесполезности к Повторяющимся Мыслям о Смерти и Повторяющимся Фантазиям о Самоубийстве). Наличие любых пяти на протяжении двух недель — достаточное основание для диагноза «депрессия». Лет десять назад Дж. лег в больницу, умудрившись выбить девять из девяти. Он поведал мне об этом без желания заработать какие-то очки (я давно уже перестал с ним соревноваться), хотя и не без некоторого мрачного удовлетворения.
Каждому танатофобу требуется временное утешение в лице кого-то, кому еще хуже. У меня есть Дж., у него есть Рахманинов, человек, приходивший в ужас и от перспективы смерти, и от возможности загробной жизни; композитор, чаще всех использовавший в своей музыке тему Dies Irae; кинозритель, выбегавший из зала со сцены на кладбище в самом начале «Франкенштейна». Рахманинов удивлял своих друзей, только когда он не хотел говорить о смерти. Типичный случай: в 1915-м он посетил поэтессу Мариэтту Шагинян и ее мать. Первым делом он обратился к матери с просьбой погадать ему на картах, чтобы (разумеется) выяснить, сколько ему еще осталось жить. Затем он завел с дочерью разговоры о смерти: в тот день он выбрал для этого рассказ Арцыбашева. На журнальном столике стояли фисташки. Рахманинов съел пригоршню фисташек, поговорил о смерти, придвинулся поближе к блюду, съел еще одну пригоршню, поговорил о смерти. Неожиданно он откинулся на стуле и рассмеялся. «Эти фисташки прогнали мой страх смерти. Интересно куда». Ни поэтесса, ни ее мать не знали ответа; но когда Рахманинов уезжал в Москву, ему дали с собой в путешествие мешок орехов, «дабы избавить его от страха смерти».
Если бы мы с Дж. играли в русских композиторов, я бы ответил ему (или повысил ставки) Шостаковичем, более великим музыкантом, но столь же зацикленным на смерти. «Мы должны больше думать о смерти, — говорил он, — и приучать себя к мысли о ней. Мы не можем позволить страху смерти подобраться к нам неожиданно. Мы должны свыкнуться со страхом, и один из способов — это писать о ней. Не думаю, что сочинения и мысли о смерти характерны только для стариков. Я считаю, что чем раньше человек начинает думать о смерти, тем меньше дурацких ошибок он совершит». Он также говорил: «Страх смерти, может быть, самое сильное чувство. Иногда я думаю, что сильнее переживания просто нет». Эти взгляды не выражались публично. Шостакович знал, что смерть — кроме примеров жертвенного героизма — не была подобающим сюжетом для советского искусства, что это «было бы равносильно тому, чтобы прилюдно вытирать нос рукавом». Он не мог позволить Dies Irae сверкать со своих партитур, ему приходилось музыкально конспирироваться. Но со временем осмотрительный композитор нашел в себе силы провести рукавом по ноздрям, особенно в камерной музыке. В его поздних работах встречаются длинные медленно-медитативные обращения к теме смерти. Виолончелист Квартета имени Бетховена однажды получил от композитора следующий совет относительно первой части Пятнадцатого квартета: «Играйте так, чтобы мухи дохли на лету».
Когда мой друг Р. высказался о смерти в передаче «Диски необитаемого острова», полиция отобрала у него ружье. После моего выступления посыпались разнообразные письма, в которых мне указывали на то, что я могу излечиться от своих страхов, если только загляну внутрь себя, откроюсь вере, пойду в церковь, научусь молиться и так далее. Теологическое блюдо фисташек. Писавшие не то чтобы поучали меня — там встречались авторы и суровые, и сентиментальные, — но они на полном серьезе полагали, что такое решение для меня большая новость. Как будто я дикарь из далеких джунглей (хотя будь я таковым, у меня имелись бы свои обряды и система верований), а не говорю это в тот момент, когда христианство в моей стране близко к вымиранию, не в последнюю очередь из-за того, что в семьях, подобных моей, не верят уже не меньше века.
Примерно на век я и могу проследить историю своей семьи. За отсутствием других претендентов я стал семейным архивариусом. В неглубоком ящичке в нескольких метрах от моего рабочего места лежит весь корпус документов: метрики, брачные свидетельства и свидетельства о смерти; завещания и апостили; характеристики и рекомендательные письма; паспорта, продовольственные карты, удостоверения личности (и cartes d'indentite [10]); записные книжки, альбомы и газетные вырезки. Вот комические куплеты, которые написал мой отец (их следовало исполнять в смокинге, облокотившись на рояль, под нестройный, как в ночном клубе, аккомпанемент коллеги по школе или армейского товарища), его подписанные меню, театральные программки и наполовину заполненные крикетные карточки. Вот амбарная книга моей матери, ее списки адресатов для поздравлений с Рождеством и таблицы котировок акций и облигаций. Вот телеграммы и аэрограммы, которыми они с отцом обменивались во время войны (но не письма). Вот табели их сыновей и карты их физического развития, программки выступлений на школьных праздниках, грамоты по плаванию и легкой атлетике — из них видно, что в 1955-м я был первым по прыжкам в длину и третьим в беге, а мой брат с Дионом Шайрером однажды пришли вторыми в гонке на тележках, — а также свидетельства о давно забытых достижениях, подобно моему аттестату о Прилежном Посещении занятий в одном из семестров начальной школы. Вот еще дедушкины медали с Первой мировой — свидетельства его прилежного посещения Франции в 1916–1917 гг., о котором он не желал рассказывать.
Этот неглубокий ящик достаточно велик, чтобы хранить в себе весь семейный фотоархив. Пачки снимков подписаны папиным почерком: «Мы», «Мальчики» и «Старина». Вот папа в учительской мантии и летной форме, в смокинге, бриджах и белоснежной паре для крикета, обычно с сигаретой в руке или трубкой во рту. Вот мама в роскошных перелицованных платьях, строгом купальном костюме-двойке и щегольском наряде для танцев на масонском ужине. Вот французский assistant, который, вероятно, сфотографировал Maxim, le chien, и другой assistant, который помог развеять прах моих родителей на западном побережье Франции. Вот брат и я в юные белокурые годы демонстрируем модели домашнего трикотажа псу, пляжному мячу и маленькой тележке; вот мы завалились на один трехколесный велосипед; вот мы на десятках фото, вырезанных, а затем помещенных в картонные рамки под общим названием «Аттракционы Нестле, Олимпия, 1950».
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
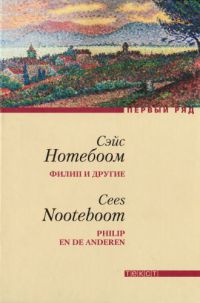




Комментарии