Силы ужаса. Эссе об отвращении - Юлия Кристева Страница 7
Силы ужаса. Эссе об отвращении - Юлия Кристева читать онлайн бесплатно
На прямые вопросы о том, к какому типу культуры — «западной» или «восточной» — она принадлежит, Кристева всегда отвечала следующее: она мигрант, но в качестве «мигранте ко го» ресурса неизменно называя болгарские корни…
«Интервью Юлии Кристевой» [28]
В существующих на русский язык переводах Юлия Кристева парадоксальным образом представлена прежде всего как семиотик и теоретик литературы [29]— возможно потому, что именно русские семиотики ее «открыли» и апроприировали еще в советское время в 80-е годы. Примечательно, что в советской и постсоветской дискурсивной апроприациии Кристева никогда не ассоциировалась ни с ее болгарским/коммунистическим происхождением, ни с ее радикальной, связанной с маоизмом и французскими левыми парижской молодостью, которые — в противовес русским интеллектуальным интерпретациям — являются основными составляющими восприятия Кристевой во Франции, спровоцировав знаменитое определение ее в кругу парижских интеллектуалов как «вульгарной болгарки» [30].
Советский семиотический дискурс подчеркнуто помещал ее в ряд европейской интеллектуальной традиции. Причиной, возможно, была основная интеллектуальная дихотомия советской культуры восток-запад, в которой западу априорно приписывалась «подлинная научность» в отличие от восточной/советской коммунистической «идеологии» (вместо науки), а советские семиотики в этой дихотомии как раз и наделялись качеством тех, кто воплощал внеидеологическое антитоталитарное «точное знание» (в виде семиотики). Кристева внутри такой дискурсивной установки автоматически должна была быть помещена в рамки «подлинного» научного авторитета, поскольку была образцом творческой продуктивности и успешности в самых разных научных дисциплинах — лингвистике и поэтике, психоанализе и семиотике, эпистемологии и метафизике, антропологии и истории искусства, религии и теории политических идей, а также стремительной академической карьеры (после опубликования через несколько лет после приезда в Париж из коммунистической Болгарии (в Рождество 1965 года) трех своих книг — Текст романа (1970), Семиотика (1974), Революция поэтического языка (1974), в 1974 году заняла кафедру лингвистики Университета Париж VII).
Однако с самого начала в этой апроприации содержался дискурсивный парадокс: советский семиотический дискурс, изучающий символические формы культуры, в творчестве Кристевой апроприировал совсем не то, что сама Кристева понимает под «семиотическим», так как «семиотическое» у Кристевой — это то, что как раз противостоит символическому в терминологии советской семиотики. Наиболее выраженная кристевская демонстрация семиотического как антисимволического репрезентирована в програмном понятии — понятии abject (отвратительное) кристевской книги Силы ужаса: эссе об отвращении (1980), репрезентирующем «ужасы» и одновременно возможности субъективации в антисимволическом/семиотическом доэдипальном пространстве отношений с матерью на примере художественного творчества таких любимых кристевских авторов, как Селин, Арто, Достоевский, Малларме и другие. Таким образом, Кристева во французской философской традиции оказывается той, кто теоретизирует отвратительное, которое в психоаналитическом смысле [31]означает ни что иное как идентификацию с симптомом, а книга Силы ужаса своей предметной областью — материнским как одним из ярчайших примеров «отвратительного» в культуре — одновременно указывает на еще одну ипостась кристевского творчества, которая также не фиксируется в ее советской и постсоветской философской апроприации — а именно, философию «материнского», являющуюся основной не только в книге Силы ужаса, но и в работах Женское время, Китаянки и др. и сделавшую Кристеву одним из ведущих мировых феминистских классиков. Поэтому если теперь задать первый вопрос о том, почему Кристеву называли «вульгарной болгаркой» в кругу парижских интеллектуалов, то мы получим и первый ответ на него — именно за дискурсивный кристевский жест патетической идентификации с симптомом, осуществляемой не в виде идентификации с «частью» (антигегелевской партикулярностью, которую так чтила Кристева и которая стала основным философским понятием в ее докторской диссертации «Революция поэтического языка»), но и одновременно с симптомально-патологическим отторжением, в пространстве которого формируется abject с его «силами ужаса»: «будто матерью блюешь». Процедура идентификации с симптомом означает, кроме того, амбивалентную идентификацию с тем, что не имеет места собственного в существующем символическом/политическом порядке. Отсюда знаменитое и двусмысленное одновременно бартовское определение Кристевой как l'étrangère, чужестранки, которое сама Кристева, тем не менее, не только не отрицает, но и дискурсивно усиливает: да, не просто абстрактная чужестранка, но и приехавшая из нищей страны болгарка (эссе Воспоминания о Софии, 1992), более того — коммунистка, более того — марксистка. Кроме того, «материнское» у Кристевой — это не только сфера отчужденных, частичных и разрушающихся идентичностей, но также и способ их разрушения в форме кристевского философского тяготеющего к беллетристике письма, которое сама она объясняет как постоянную эволюцию в сторону «ужасов сомы и биологии». В этом смысле ее романы Самураи и Старик и волки на самом деле означает ни что иное, как уход от так называемой литературы.
На вопрос «почему?» возможен в то же время и второй ответ, указывающий не только на позже придуманное abject, но и с первых, семиотических работ интенсивно использованное понятие «русскости» (в виде философии телесного низа Бахтина или экстатически-революционного языка русских формалистов), с самого начала направленные — тем самым — против западных дискурсивных норм и для которых Кристева позже, кроме «выблевывания» (материнского тела) вводит специальное понятие «матереубийства», также спровоцировав определение себя как «вульгарной болгарки». Понятие «матереубийства», собственно, указывает на две основные характеристики кристевского понимания субъективации: во-первых, отторжение/«выблевывание» гегелевского универсального (не только «материнского»- как символа универсального, но и, например, «западного»/рационального как его формы) в пользу партикулярного, частного и частичного («симптома» как характеристики не только гениального, уникального и неповторимого художественного творчества в ситуации отсутствия всякой гарантии со стороны универсального [32], но и всех других возможных партикулярных, «уникальных и неповторимых», стратегий идентификации — женских, русских, болгарских, марксистских, революционных, «вульгарных», маоистских, мигрантских и т. п.); во-вторых, указание на травматический — насильственный и болезненный — характер этого симптомально-частичного отторжения/«выблевывания»/субъективации (метафора «выблевывания» и должна подчеркнуть насильственный травматизм отторжения частного от универсального со всеми его «ужасами»). Такие типы дискурса, которые в той или иной степени промысливают ситуацию антисимволических особенностей субъективации и дискурсивную ситуацию насилия (и для которых Кристева использует понятие «матереубийства»), становятся особенно актуальными в современной культуре, что связано, возможно, с ее основным парадоксом: по видимости толерантный мир мультикультурализма и политкорректности вызывает в то же время самую необоснованную и неутилитарную жестокость. И именно для них в современной философии вводится понятие «непристойных» [33]— для характеристики дискурсивной сущности насилия в двух его проявлениях: 1) как неписанное «непристойное дополнение» к существующему символическому порядку (критические дискурсы современности в этом контексте чаще всего «разоблачают» западную интеллектуальную культуру, о которой «мы хотим знать, но боимся спросить», за Лаканом обнаруживая в ней, например, Хичкока) и 2) как прямое эксцессивное насилие (примерами которого чаще всего является «восточная», тоталитарная культура, о которой, перефразируя, «мы боимся знать и не хотим спросить»). Кроме того, позиция «матереубийства» в философии Кристевой указывает и на особый статус субъективности, находящейся в ситуации между — между влечением к смерти и спонтанным рождением из ничего, когда, субъект видит (или делает) себя страдающим. Не случайно идеальной фигурой субъективности у Кристевой оказывается трагическая фигура изгоя-художника, интеллектуала (в том числе женщины-интеллектуалки), диссидента — всех тех, кого она, по аналогии с названием романа, называет самураями — «осуществляющими революцию» и, поэтому, «принимающими на себя огромный телесный и духовный риск». [34]
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




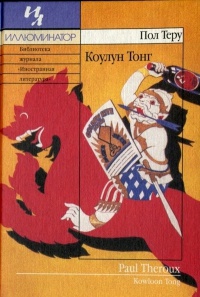
Комментарии