Геррон - Шарль Левински Страница 6
Геррон - Шарль Левински читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Если такое бывает, то папа был ортодоксальный атеист. Иудейские традиции у нас строго отслеживались — чтобы из принципа не соблюдать их. Так, раз в году, на Йом Кипур, мы посещали новую синагогу на Ораниенбургер-штрассе. Не из набожности, избави бог. А потому, что он считал, что клиентура ждет этого от него.
Это всегда был очень приятный день. Меня освобождали от школы, и в синагоге я наслаждался органной музыкой. В то время как папа беседовал со своими соседями о коммерческих перспективах и обсуждал поставщиков. Дома нас ожидал после этого особо обильный обед. Так папа демонстрировал себе самому, что иудейский день поста для него имеет не больше значения, чем, например, 27 января. Когда в день рождения кайзера из окна вывешивался еще и флаг — при том, что он вовсе не был рьяным поклонником Гогенцоллернов.
То, что я получил свои первые длинные брюки ровно к тринадцатому дню рождения, я могу объяснить только тем, что старые традиции для него были живее, чем он сам себе признавался. Все остальные ритуалы, обычные для еврейского мальчика к этой дате, мне соблюдать не разрешалось. Хотя я бы с удовольствием выступил перед всей общиной, читая вслух Тору. Это отвечало бы моей уже тогда сильно развитой склонности к театральной игре.
Запальчивость, с которой папа отвергал все религиозное — и в первую очередь все иудейское — как несовременное и давно преодоленное, не имела ничего общего с какими-нибудь просветительскими познаниями или «Энциклопедическим словарем Майера». Он просто был убежден, что всякая форма веры в Бога отмечена чем-то провинциальным. А провинциальным он быть не хотел ни за что на свете — как многие люди, которые сами родом из провинции. Старался казаться более городским, чем коренные берлинцы, но так и не смог до конца избавиться от интонаций своей юности с раскатистым «р» и сдавленными гласными.
Может, это от него я унаследовал склонность к притворству. Он всю свою жизнь играл одну роль: интеллектуального псевдореволюционера. Но обстоятельства — как пелось в песенке: «он был революционер, а по жизни фонарщик» — позаботились о том, чтобы его мятеж всегда оставался чисто теоретическим. Внешне это на нем никак не сказывалось. В любое время, дома тоже, он был корректно одет, как и следовало ожидать от директора швейной фабрики со стремлением к лучшей клиентуре. Костюм сдержанного рисунка с жилеткой, шелковый галстук, неудобно жесткий воротник. К этому еще усы, которые он хотя и не закручивал вверх в манере всего достиг, но которые требовали регулярного ухода специальной щеточкой.
Он был, как и мама, не очень высокого роста. Когда дело доходило до педагогики, я, длинная жердина, вынужден был садиться, чтобы во время головомойки ему не приходилось взирать на меня снизу вверх.
Если бы он был еще жив — как я счастлив был бы обнять его и шепнуть на ухо: «Творожья ты башка!»
В отношении к родителям мне не в чем себя упрекнуть. Я всегда о них заботился, в том числе и в эмиграции. Если бы я мог их спасти, я бы их спас. Я бы даже любил их, если бы они это допускали. Но мой во всякое время трезвомыслящий отец не любил сентиментальничать, да и в мамином благовоспитанном мире нежности предусмотрены не были.
Я не жалуюсь. Я никогда не испытывал в чем-нибудь недостатка. Вот только некоторым вещам я не научился. В доме без музыки музыкантами не вырастают. В качестве режиссера мне хорошо удавалась постановка любовных сцен. Потому что и в повседневности мне всякий раз приходилось размышлять, как это бывает. Дома мы в этом не упражнялись.
Мои родители любили меня, в этом я уверен. Они просто не умели это показать. У нас было не так, как я это представлял себе в семье. Не так, как я любил бы моего собственного ребенка. Не так, как этот ребенок любил бы меня. Не так…
А было так, как было.
Они много сделали для меня. Так, как им казалось правильным. Может быть, не знаю, они после моего рождения купили справочник по воспитанию и прорабатывали его пункт за пунктом. Если в книге не попадалось выражения чувств, это была не их вина. Мама умела чистить апельсин ножом и вилкой, но не знала, как обнять близкого человека. Этому ее не научили. Даже наоборот: в Бад-Дюркхайме, что среди виноградников, это из нее вытравили.
Когда я потом встретил Ольгу, самым чудесным для меня было в ней то, что такие вещи были для нее совершенно естественными. Ей не приходилось над этим задумываться. Она происходила совсем из другой семьи.
В тот день, когда она должна была представить меня в Гамбурге своим родителям, у меня была сценическая лихорадка почище, чем перед важнейшими премьерами. А ее мать расцеловала меня в обе щеки, а отец обнял за плечи. Для этого ему пришлось привставать на цыпочки, и над этим мы все вчетвером смеялись.
Потом мы с Ольгой вместе поехали в Берлин, и я снова трясся в лихорадке. Она же была совершенно спокойна. Я думаю, она вообще не заметила ту обезличенную искусственность, с какой была принята в новой семье. Ольга всегда обладала способностью, которой мне так недостает: принимать людей такими, какие они есть. А мне всегда приходится к ним притираться. Переукладывать их так и этак в моей голове.
При первой встрече мама протянула новоиспеченной невестке руку с такой искусственной элегантностью, что Ольге удалось ухватить ее только за кончики пальцев. Папа отвесил полупоклон, которому учил когда-то и меня, и сказал:
— Весьма рад познакомиться с вами, фройляйн Майер.
Я-то представил ее по имени, но ему это казалось недостаточно корректным.
При том что папа с самого начала был от нее в восторге. А единственное, чем была недовольна мама, — так это тем, что Ольга имела профессию. В ее мире женщины не зарабатывали деньги.
Она им по-настоящему понравилась. Но они не умели это показать. К этому у них не было таланта.
Когда я маленьким мальчиком спросил у папы: «Ты меня любишь?» — он ответил: «Но это же само собой разумеется». То, что разумелось само собой, логически мыслящий человек не должен был еще и демонстрировать.
В больнице Вестерборка, когда мне снова стало лучше, я начал читать Библию. Когда-то это надо было сделать. Чтобы понять, почему некоторые люди так воодушевлены ею.
Там написано: «Чти отца своего и мать свою». Для этого требуется отдельная заповедь, потому что это не разумеется само собой.
Я не набожный человек, однако этой заповеди, могу сказать это с чистой совестью, я придерживался всю жизнь.
Только из меня получился бы совсем другой человек, если бы я рос не в сверхкорректной атмосфере Клопшток-штрассе. Точно так же, как мама была бы совсем другой без Бад-Дюркхайма. Или папа без своего родного местечка Кришт.
Кришт.
Это название следует произнести вслух, чтобы по-настоящему ощутить, насколько оно отвратительно.
Криииишт.
Кто же захочет быть родом из местечка с таким названием? Даже Наполеон, родись он в Криште, не сделал бы карьеры. Самое большее он стал бы унтер-офицером, при его-то росте. Но императором — никогда.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

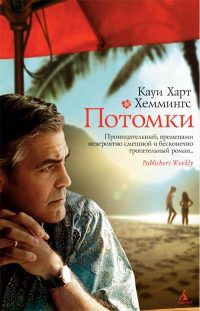
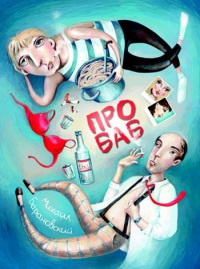
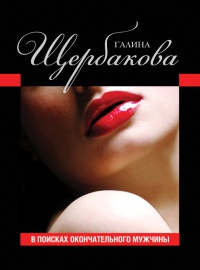
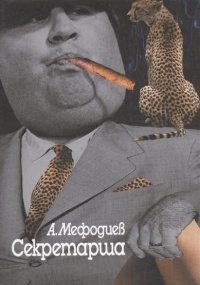
Комментарии