Прощание с осенью - Станислав Игнаций Виткевич Страница 56
Прощание с осенью - Станислав Игнаций Виткевич читать онлайн бесплатно
Было утро, девятый час — Атаназий знал это наверняка. Рассвет был пыткой, а черной занавески не было. Надо было убить зарю — убили. Сияние дня было не тем, что обычно, оно было у ж а с н ы м: словно огромное лицо трупа любимого существа, возможно даже матери. Еще никогда день не начинался так — то был день на другой планете, в каком-то далеком неизвестном созвездии. Незнакомое, как Сириус, Вега или Альдебаран, «наше» обычное солнце всходило над разодранным хронической революцией городом, впрочем, для тех, «других» людей оно было тем же самым будничным солнцем начинающегося обычного дня.
[Город был как саднящая, нарывающая язва (может, как маленький прыщик?), а кто-то неизвестный хотел выдавить неумелыми руками эту язву, вместо того, чтобы сделать операцию en règle [49].] Но чем же это было для них, до последней степени отравленных страшным, о б м а н н ы м ядом, для них, гниющих отбросов, пожирающих друг друга под видом высшей дружбы, самых высоких чувств, приправленных реальным омерзительным свинством? Тот, другой, был на своем месте, но Атаназий? — к счастью, он ни о чем не знал. Безличностное чудовище мести и расплаты ждало его с раззявленной беззубой пастью (просто это был наступающий солнечный зимний день), смеясь над его «экстазами» и «улетами в иное и отличное бытие» — обмануть его было нереально, разве что в смерти. Наверняка он ждал терпеливо. А они говорили. Но что говорили? Это было самым важным. К сожалению, ни один из них не мог помнить этой неизмеримо глубокой (как им казалось) гонки мысли на грани безумия, за гранью безумия, вне безумия — безумие пробито навылет — там это слово не имело смысла. А говорили так, и им это казалось, будто они открыли новое, психически неевклидово бытие. И если бы их кто подслушал, то услышал бы такое:
А т а н а з и й. Ты видишь теперь, как все пересекается там, где и должно?... чудесно... это та самая линия, тот волосок, который разделяет, и все-таки соединяет... ах, как это прекрасно!... ты ничего не понимаешь, ты кретин...... я ее тоже... Геля ужасная скотина... а ты, ты... это чудо... ничего нет... и все-таки...
Л о г о й с к и й.(в чуть более трезвом сознании, но не слишком). В том-то все и дело... ты единственный... я всегда знал это... ты видишь, что я один... они говорят, но не понимают... не понимают, что здесь не в этом дело, и все же именно в этом, но не так, а по-другому, совсем иначе... понимаешь?... Альфред — скотина... понимаешь, я с какими-то шоферами и с такими специалистами... а собственно, не в том дело... не могу этого выразить... и там и где-то еще одновременно...
А т а н а з и й. Не говори об этом... Да, я знаю... там и не там... А где грань?.. рубеж... так можно и до бесконечности... но это не то... Зоси никогда не было... так, как есть, так лучше всего... честное слово, люблю тебя... Абсолютное единение... никогда, и несмотря на это, все же — навсегда...
Л о г о й с к и й. Да, никогда... мы одни... никто этого не поймет... это так просто... но в этом, однако, и величие... скажи, что никогда...
А т а н а з и й. Да... и именно поэтому... они, эти бабы, никогда только мы... но за границами себя: в самом центре того, чего нету... Это чудесно... и т. д., и т. п.
И казалось им, что они сообщают нечто неслыханное, что если бы кто-нибудь записал это, то это стало бы откровением для всего человечества. «Вот какое оно проклятое „коко“, „la fée blanche“ [50]», — как потом говорил Атаназий.
Утреннее зимнее солнце проникало через опущенные шторы, освещая желтым светом страшный беспорядок в комнате и зеленые шальные лица пронаркоченных «друзей». Чудо свершилось: они «убили» не только зарю, но и белый день. Но что теперь? Логойский, как давно «приобщенный к тайне», дремал на диване, слушая отрывистые бессмысленные фразы Атаназия, который ходил туда-сюда нервным шагом, точно гиена в клетке, и совершенно нехарактерно для себя жестикулировал. У него были чужие движения, чужое лицо, да и сам он фактически был другим. У него было впечатление, что действительность, распухшая, выпяченная, набрякшая и вот-вот готовая лопнуть и брызнуть самым своим сокровенным соком, отдается ему без памяти в отчаянном вожделении. Он был ее частичкой, принимал все в себя и одновременно насиловал весь мир, крушил его в себе, пережевывал, переваривал, отрыгивал и снова пожирал. Он поднял штору и сквозь слепящий свет посмотрел на площадку перед дворцом, запорошенную чистым свежим снегом, розово-оранжевым в лучах утреннего солнца: низкая стеночка, а дальше — сад, в котором сбросившие листву деревья под светом, казалось, были сделаны из раскаленных докрасна железных прутьев. Под стеночкой лежала сине-фиолетовая тень несказанной красоты. Восторг Атаназия достиг апогея, он больше не мог перенести его; уже все лопалось, рвалось, как медленно взрывающийся снаряд внутри мозга. Мировые связи трещали: даже в имевших до сих пор место кокаиновых измерениях творилось нечто немыслимое. Если бы Атаназий смог увидеть свое прижатое к стеклу лицо, он испугался бы. Гойя, Ропс и Мунх, да черт их знает кто еще, были ничем по сравнению с его выражением. Смятая зеленая тряпка с буро-фиолетовыми тенями, из которой торчали изуродованные безумием глаза с жутко расширенными зрачками и искривленный в дикой свирепости рот, высохший, потрескавшийся. Он был иссушен изнутри, как будто пребывал в крематории, а воды больше не было: надо было идти по воду... Тогда он выпил полстакана водки. Но что это все по сравнению с тем восхищением... День был убит, но вот-вот должен был воскреснуть: жертва изощренного обмана и ужасный мститель за этот обман.
И тут снаряд внезапно взорвался, и все изменилось, как по мановению волшебной палочки. Прекрасный в трепете невыразимой красоты, мир свернулся, изготовившись к прыжку, и бросился, как хищный зверь, на бедную, обманывающую его и себя, человеческую падаль, впился со всем скрытым до поры остервенением в несчастное, тщетно ищущее спасения сознание. Открывались перспективы безграничных мук. Атаназий вдруг очутился в какой-то внепространственной камере пыток безличного жестокого суда, как никогда одинокий, чуждый себе, однако тот же самый, тот, который только что тонул в бездонном блаженстве неземного восторга. Как же это могло случиться? Напрасно теперь скулить о пощаде — некого о ней молить: он был один во всем бесконечном мироздании. Сердце, как затравленный зверь, рванулось в последнем усилии, дав очередь больше двухсот ударов в минуту; оно хотело спастись, обеспокоенное до безумия, ошалелое от тревоги за то, что вытворял до сих пор сравнительно добрый его союзник, а теперь чужой, безжалостный враг — мозг. Моментами оно беспомощно останавливалось на три, на пять ударов, но ничего. Смерть (даже она, безразличная) склонялась тогда над этой достойной сострадания «кучей н е с к о о р д и н и р о в а н н ы х органов», спрашивая «как, уже?». Э-э-э — еще нет — пусть еще помучается. Приходило отмщение, сколь жестокое, столь же и справедливое. Надо было поменять фальшивые банкноты, заплатить чистым золотом за все, причем с ростовщическим процентом, в противном случае — тюрьма или смерть. Это произошло внезапно, тихо, тайно, предательски. На неподготовленного, тонущего в восторге Атаназия, обрушилась гора невероятной гадости и ужаса — он перебрал дозу, и весь «katzenjammer» или «pochmielje» (странно все-таки, что нет польского эквивалента), которое могло прийти еще только завтра, уже сейчас, в данную минуту происходило, причем в самом мощном исполнении. И тщетно было искать спасения в стеклянной трубочке с белым порошком — там была только смерть. Атаназий чувствовал, что уже сошел с ума, что мука эта невыносима, что он никогда не заснет, и таким будет всю вечность. Насколько вчера вечером все (начиная с клетчатых портков Ендруся), не изменяясь, стало непостижимым образом прекрасным, единственным и необходимым, настолько теперь, перескакивая точку, как правило, отвратительной действительности, качнулось на тот же самый угол, а может, и на больший, но в противоположную сторону, сторону отвращения, случайности, беспорядка и страха. Но то были всего лишь заснеженный двор и сад, залитые утренним январским солнцем — нечто относительно красивое из городских реалий. Атаназий обернулся и утонул взглядом в отвратительной темно-желтой глубине комнаты. (Солнце уходило прочь от этой картины, перемещаясь направо.) И тогда он понял, что безграничная мука ему еще предстоит. Казалось, что он уже пережил самое худшее, а тут перед ним нагромоздилась в тысячу раз более интенсивная гадость. Он вспомнил (только теперь) все, и его затрясло от необоримого страха. Полуголый, развалившийся на пузе Ендрек с выступающей задней частью тела был самым ярким символом невозможного в своей чудовищности падения. Атаназию захотелось просто взять столовый нож и зарезать эту скотину. Но последним проблеском сознания он сдержался. В себя его привел страх, но уже другой, животный, дикий: за себя, за мозг, за сердце. Этот страх вернул ему какое-то автоматическое скотское сознание и хладнокровие. Он вывел Логойского из одурманенного состояния, с отвращением прикасаясь к нему, как к жабе. «Такова, значит, твоя дружба и твой „искусственный рай“», — процедил он сквозь стиснутые зубы, скрежетавшие, как у грешника на Страшном Суде. Он делал вид, что все хорошо, чтобы как можно скорее улизнуть отсюда. Но у самого не хватало смелости выйти на залитые солнцем улицы города, ожидавшего нового государственного переворота. Логойский пришел в себя; он был как-то странно в себе (делал вид): он был холоден и далек, но все же вежлив, и услужлив, и даже добр.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

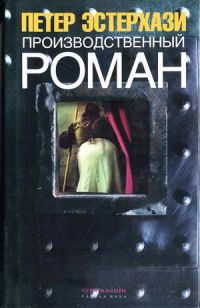



Комментарии