Спящие от печали - Вера Галактионова Страница 5
Спящие от печали - Вера Галактионова читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Сон материнский витал над ним, сообщая младенцу тревогу привычную, но спасительную – отгоняющую далеко в коридор всё самое страшное, косматое, огромное. Отцовского же сна не было в мире этой тёмной ночью. И потому в комнате двигались холодные пустые смелые тени, жавшиеся обычно по углам. Они, боящиеся только мужского широкого дыханья, маячили теперь совсем рядом с младенцем. Но материнская слепая тревога была такой сильной, что тени всё же не приближались вплотную к поскрипывающей коляске, только холодили младенца тоской. От перемещения осмелевших теней долетало дуновенье хладное, летучее…
Зато в соседней комнате барака стремительно расцветал сон радостный и странный. И хорошо, что он разворачивался там, за стеною, потому что всё слишком яркое и слишком резкое пугало Саню ещё больше, чем пугают детей холодные пустые безмолвные тени, которые смелеют и приближаются к младенцам ночами, когда рядом нет отцов.
* * *
Самый счастливый сон в Столбцах снился в это время бывшей учительнице Сталине Тарасовне, или по-теперешнему – Тарасевне, морщинистой и шустрой. Даже под тяжёлым одеялом она спала в позе бегущей стремглав старухи – выбросив руки вперёд, к желанной цели, и широко улыбаясь во тьме беззубым ртом: Тарасевне снилось, что её убили.
Всего неделю назад ей удалось устроиться сторожем на автозаправку – дежурить через двое суток на третьи. И она тогда ещё сразу всё сообразила и прикинула: теперь хорошо бы ей помереть на новой этой службе, и лучше всего – от бандитского мгновенного выстрела. Тут тебе и смерть лёгкая, и похороны за счёт производства! А замужней дочери её Галине – пригожей фельдшерице, живущей на другом конце города, уж не придётся ухаживать за нею, хворающей какой-нибудь вонючей старушечьей бесконечной болезнью. И главное – искать деньги на Тарасевнины похороны не надо будет уж никому!
Сослуживцы дочери сами получали зарплаты крошечные, нищенские и не часто. А зять Тарасевны был всего-навсего безработный инженер Коревко из давно прикрытого научно-исследовательского института. Сбегает Тарасевна к дочери в гости – и разругается из-за него со всеми. Прикрикнет на Коревку, подтирающего пол или моющего посуду:
– Что же ты несподручный какой, что и в грузчики тебя не берут? Эх, инженер! В неурочный час ты, видно, заделанный!
Тот скажет ей сущую ерунду, не прерывая домашней своей работы:
– Нынче вокзальная бригада не подпустила чужих к своему заработку. Зато я шашлычнику гору лука начистил. Он майонезом расплатился, мама…
Нацепит Тарасевна тусклые очки в коричневой тонкой оправе, треснувшей на переносице от решения особо трудной задачи по физике. Не поленится – глянет: так и есть. Майонез просроченный. Как сама её жизнь.
– Прогорк! Ой, прогорк… И дочки у вас нарядов не видали! И чай вы без заварки пьёте. Угостили мать-старуху голым кипятком, уважили!
А пригожая Галя её сведёт рисованные брови к переносице и перестанет распускать на нитки старую кофту. Бросит клубок на пол, словно мячик в детстве своём. Гладкое лицо её потемнеет, набрякнет обидой, как туча, готовая пролиться:
– Девочки опрятные ходят. Ну, что нам теперь, в петлю лезть?
После таких слов Тарасевна очки надтреснутые решительно поправляет – и кричит уж надтреснутым тонким голосом, с напевным жалобным подвыванием:
– Разве же я для постной жизни тебя, сдобную, нежную, учила-растила? Чтобы ты на всю семью одна зарабатывала, как вдовая страхолюдина, которая с детьми на руках осталась, ненужная никому? Я же для тебя работала в две смены и, кроме физики, ещё начальные классы прихватывала себе! Наживала варикоз, пока ты дома вышивала на пяльцах сирень, жасмин и чайную розу нитками мулине, шёлковыми, мною купленными… И когда анатомию ты учила, то белыми пальчиками только странички переворачивала страшные, со скелетами, да карамельки посасывала разные, на выбор. А кто тебе стирал и гладил? Кто готовил? Не я ли? Для твоего счастья, Галина… А как я учеников муштровала? Мой троечник за пятёрочника в институт принимался!.. И политинформации проводила я – стоя, тридцать лет кряду: авторитет свой укрепляла в школе, для надёжности, чтоб двух ставок, двух зарплат меня не лишили. Всё – ради дочери единственной… И где оно теперь, твоё счастье? Мой варикоз – он весь при мне. А счастье – где твоё? Где?!.
Подбоченится бывало Тарасевна, поглядывая в сторону зятя, окаменевшего над раковиной, а услышит от дочери усталое, равнодушное:
– Живём, как можем. Зачем же нас корить нуждой всякий раз? Разве мы у тебя хоть раз что-нибудь попросили?
– Не попросили они! А для кого я живу?! – топнет от негодования Тарасевна раз и другой. – Для себя?! Я хочу, чтоб у детей ваших судьба была!.. Он почему семью в Россию до их пор не вывез? Отвечай матери! Столько у него там знакомых профессоров, учёных академиков! И все его хвалили! «Золотая голова, золотая голова»! А что же он никому не нужен оказался? Что же выбраться отсюда никто ему, хорошему мужу твоему, не помог? Тебя спрашиваю: мы почему застряли здесь, где азиатское всё теперь стало? На веки вечные, не в своей уж стране, приживальцами сделались – так, что ли?
Но только связывает Галя нитки узелками, рвущуюся старую пряжу готовит для вязания:
– Те учёные, мама, в России сами без работы, на хлебе и воде, сидят. Себе помочь не могут. За что мне его ругать?
– Мужа ей жалко! Ну, раз не хочешь ты его тормошить, орясину, давайте все впятером пропадать пропадом здесь, в Столбцах! Вторым сортом жить, к чёрной работе привыкать. Только пускай первым он к ней сначала привыкнет! Глава! Он!..
* * *
Наругавшись до звона в ушах, прибегала Тарасевна к себе, приговаривая суматошно: «Чужбина здесь стала! Чужбина!..» Скидывала она пальто и шалёнку, надевала поскорее толстый свой чепец. Был он коричневый, в белый мелкий горох, – навроде чепчика детского, только большой и стёганый, на вате, чтоб голова не зябла. Туго завязывала Тарасевна байковые тесёмки под вислыми щеками, становясь похожей то ли на старого лётчика, то ли на морщинистого танкиста, и сразу бралась за дело. Из старых учительских юбок – серых, сизых, дымчатых – шила внучкам платьица. Строчила с большою скоростью на старой ножной машинке, стучащей свирепо, как пулемёт. И горевала, притомившись, и шмыгала носом слезливо, и утиралась отрезанным лоскутком, прихваченным с пола: случись чего, належится она, не погребённая старушища, у себя в бараке! На гроб денег не собрать… Пока найдут Коревки, что продать, да пока найдут, кому продать – столько времени пройдёт, что иссохнет учительское бедное тело её до неузнаваемости.
Нет, разорила бы тогда Тарасевна всех близких естественной своей кончиной. И, дожидаясь положенного погребения, закаменела бы тут, в бараке, со временем, как распоследняя египетская мумия. А теперь выгода получалась преогромная, со всех сторон: и заработок её к дочкиным копейкам прибавлялся, и будущее открывалось замечательное: автозаправку грабили часто.
Похороны потом устраивали очень хорошие – без оркестра, но с поминками в полуподвальной столовой. Кормили вернувшихся с кладбища винегретом, лапшой на постном масле и жареным палтусом или хеком: всё – за счёт производства. И по стопочке даже наливали каждому, всё ещё живому, сослуживцу, не говоря уж о рюмке, накрытой хлебушком, поставленной ещё одной душе, выбывшей только что благопристойно из трудового коллектива… Благопристойно, непостыдно…
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




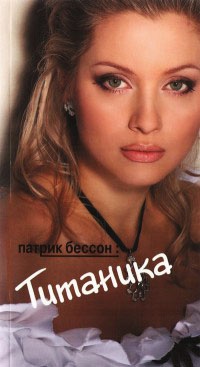
Комментарии