Записки гайдзина - Вадим Смоленский Страница 5
Записки гайдзина - Вадим Смоленский читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
— А я думала, это значит «тринадцать долларов»…
— Почему?
— Ну как… «Сатын» — это же тринадцать?
— Тринадцать по-другому пишется. Но я раньше тоже думал неправильно. Думал, это значит «сатин». Такой материал, из которого трусы шьют. Потом глянул в словарь — а это «атлас».
— И что?
— Да нет, ничего. А вообще, «Satin Doll» — это песня Дюка Эллингтона.
— Знакомое имя.
— Мне еще интересно, кто его на эту песню вдохновил. Тараги-сан считает, что вдохновила вот такая.
Юко склонила голову набок и посмотрела на Барби.
— Не думаю, — сказала она. — Та была негритянка.
— Возможно, — согласился я. — Но цвет здесь не важен. Атлас может быть любого цвета. «Атласный» — это на ощупь. И что самое интересное: с текстильной точки зрения, сатин — это тот же самый атлас. Только не из шелка, а из хлопка.
— Ты это все к чему?
— Да так… Получается, что кукла может быть и из сатина. Только разве такая кукла вдохновит Дюка Эллингтона?
— А такая вдохновит? — Юко показала на Барби.
Я вздохнул. Потом полез в задний карман и вынул оттуда белую картонку.
— Вот. Передай это своей больной Любе. Пусть звонит.
— Дзе-ру-дэ-н-ко, — прочитала Юко. — Город Сясидо… Так это же не ты!
— Не я. Но это лучше, чем я.
— Почему?
— А ты представь сатиновые трусы с джинсовой заплаткой. Красиво?
— Не очень.
— Ну вот, видишь…
Юко задумалась, опершись подбородком на ладошку. Потом спросила:
— А этот, которого она вдохновила, — он еще живой?
— Он вечно живой, — ответил я. — Послушай!
Труба Нацуо Хамады мягко и неторопливо выдавила одну за другой восемь робких, приглушенных нот. Восьмая осталась висеть в воздухе неподвижным матовым лучом, который тут же начали обволакивать томные стоны басовых струн, нежные фортепианные трели и важное урчание сакса. Убедившись в поддержке, луч покачался вверх-вниз, поиграл цветами и погас. Это была первая прикидка — после нее те же самые восемь нот двинулись по разведанной дороге уверенно и дружно, как фарфоровые слоники по комоду. Восьмой слоник остановился на краю, расправил ушки, поднял хобот и затрубил торжественно и протяжно — а вокруг него снова засуетились клапаны, клавиши и смычок, взбормотнули что-то шесть струн потоньше, подползла шелестящая латунная тарелка. Слоник протрубил все, что ему полагалось и сиганул с комода. Пока публика глядела ему вслед, Масао Кавасаки набрал в грудь воздуха, охватил губами мундштук — и вместо восьми прежних нот выдал целых двадцать, накидал их зигзагами и петлями, а последнюю притащил туда, где его уже ждали остальные. К тому моменту смычок был отложен, на толстой струне лежал мозолистый палец Кена Судзуки, а кучерявый Накамура изготовился к хорошему удару сразу по двум тарелкам. Для пущей верности Масао слегка приподнялся на цыпочках, взмахнул локтями — и все шестеро синхронно вступили на «Мост в Челси».
В год, когда Билли Стрэйхорн написал для Дюка Эллингтона «Chelsea Bridge», в Темзу падали немецкие бомбы. То был год, когда Сталинградский тракторный клепал тридцатьчетверки, адмирал Ямамото посылал самолеты на Пёрл-Харбор и по всей планете гремели лишенные синкоп марши. Но с тех пор из Темзы утекло много воды. Бомбы смыло в море, Европа помирилась, на Гавайях сильно выросла японская диаспора, а могила Рихарда Зорге заросла травой. Джаз — он же фьюжн, он же фанк, он же рок-н-ролл — подступил под самые Мытищи. Теперь, чтобы его не услышать, надо было засунуть голову в самовар.
После «Моста в Челси» они сыграли «Апрель в Париже». Затем — «Ночь в Тунисе». Следом — «Девушку из Ипанемы». Дальше — «Мамбо Италиано». Потом Кейко подвинула к роялю микрофон, взяла несколько аккордов, и я услышал:
«Every night you hear a croon of Russian lullaby…»
Обещанный сюрприз удался. Поймав несколько взглядов, брошенных со сценической площадки в мою сторону, я оттопырил большие пальцы и поднял их повыше. Весь секстет заулыбался.
Кейко продолжала петь — но ее вдруг заглушил взрыв хохота на баллюстраде второго яруса, где расположилась компания говорливых американцев. Юко нахмурилась, отодвинула чашку и проворчала мне на ухо:
— Слышишь, Бадыму? Опять эти гайдзины понаползли!
В следующее мгновение до нее дошел смысл сказанного. Она уронила голову на стойку и затряслась в смехе и смущении. Я похлопал ее по плечу — мол, ничего страшного… Не отрываясь от стойки и продолжая хохотать, она повернула сильно порозовевшее лицо ко мне:
— Бадыму!!! Я забыла, что ты тоже!..
— Тс-с-с-с! — сказал я. — Нам играют колыбельную.
Однако убаюкивать нас никто не собирался. Едва затих последний всплеск повторивших всю тему клавиш, как Накамура с бешеной скоростью замолотил по тарелкам. Кавасаки выступил вперед, его узловатые пальцы легли на клапаны тенора — и «Русская колыбельная» Ирвинга Берлина превратилась в то, что сорок лет назад сотворил из нее Джон Колтрейн.
Хард-боп. Sheets of sound. Тысяча нот в минуту. Четыре аккорда вместо одного. Колыбельная, которой можно перебудить все Черемушки и все Мытищи. Ритм, под который не смаршируешь. Позавчерашняя музыка, всегда глядящая в завтра.
Кавасаки был в ударе. Его глаза зажмурились, ногти побелели, шея раздулась змеиным капюшоном. Он не хотел на Хоккайдо, он хотел в Париж. И все шестеро чего-то хотели — по крайней мере, пока играли. Они хотели неизведанных гармоний и неожиданных синкоп, неопробованных стилей и неподхваченных тем. Хотели втянуть в себя все сыгранное другими и выдать свое. Хотели, чтобы вселенская скука наконец скукожилась. Чтобы лохматые медведи и толстые слоны навсегда убрали свои свинцовые лапы с ушей человечества.
Завтра эти шестеро наденут пиджаки и фартуки, выслушают гимн фирмы, поклонятся богам и встанут по своим ячейкам. Завтра их жестко построит Социум, внешне они станут неотличимы от миллионов других солдат этого войска. Их ждут внеурочные, общественный долг и преодоление жизни. Они готовы к этому, им не привыкать. Но сегодня — четвертая пятница. Сегодня они играют хард-боп. Сегодня они похожи только на самих себя. Они свободны.
Из разверстого медного чрева исторгались умопомрачительные пассажи. Нотам было тесно в прокуренном воздухе кафе, им не хватало слушателей. Под мощным звуковым напором распахнулось окно, ноты хлынули наружу, стали разлетаться по улицам вечернего города и окрестным рисовым полям. Белая цапля, прикорнувшая на меже, была грубо разбужена дикими звуками «Русской колыбельной». Ноты молотили ей по голове и застревали в перьях. С перепугу цапля поднялась в воздух — там по ее клюву прошлись барабанные палочки, а под дых ударила горячая волна, прилетевшая из трубы Нацуо Хамады. Цапля чирикнула, перекувырнулась через голову и окончательно проснулась. Воздух был густо наполнен джазом. Отрывистые аккорды рояля били в левое крыло, гитарные струны — в правое. Звон тарелок щекотал ноги, а контрабас рассыпался по спине мягкими тычками. Не в силах больше противиться, цапля сделала мощный взмах, потом еще взмах, потом несколько взмахов — а потом вытянула шею и легла на гребень джазовой волны.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

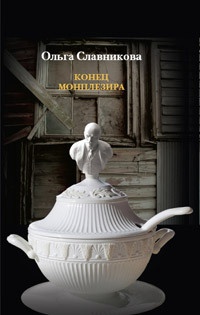



Комментарии