Польский всадник - Антонио Муньос Молина Страница 5
Польский всадник - Антонио Муньос Молина читать онлайн бесплатно
Я слышу теперь, так далеко, в том месте земного шара, о существовании которого он даже не подозревает, голос своего деда – неумолкающий, горловой, причудливый, его смех, которого уже никогда не услышу, хотя дед еще не умер. Отныне он постоянно молчит, тучный, отягченный старостью, неподвижно сидя за столом с жаровней на той же кухне, теперь с гладким потолком и плиточным полом, с телевизором в углу, цветными фотографиями в рамке, на которых уже нет курсивной подписи Рамиро Портретиста. На этой кухне, освещенной огнем печи или пламенем светильника, сидит в другое время прадед Педро, и моя мать – десятилетняя девочка, не знающая, что меньше чем через час в дверь постучат и, открыв ее, она увидит незнакомого бородатого человека, в котором сначала не сможет узнать своего отца, – подходит к деду, ища в нем теплое и надежное укрытие от холода, отчаяния, страха, чтобы не слышать голоса детей, которые поют на улице песенку «Тетя Трагантия, дочь короля Бальтасара» или, собравшись в кружок, рассказывают истории о женщине-призраке, замурованной живьем в подвале Дома с башнями. В этот ночной час она начинает обходить, как кающаяся душа, залы с мраморным полом, разрушенные галереи и карнизы с фигурными водосточными желобами, с зажженным факелом в руке.
– Совсем близко, прямо там! – показывают дети. – На другом конце площади.
Иногда ночью, мучаясь бессонницей, мать высовывается из окна своей комнаты и будто видит свет, мелькающий за стеклами башен, лицо призрака, белое и круглое, прижавшееся к стеклу и кажущееся ей бледным, как луна. Черты лица этой женщины, виденные моей матерью лишь в дурных снах и мерещившиеся в бессонные ночи, переместились из ее памяти в мою, не только через голос, но и через невысказанный интуитивный страх, чувствовавшийся в ее глазах, и той отчаянной нежности, с какой она меня обнимала, – не знаю когда – задолго до того возраста, в котором закрепляются первые воспоминания, когда мы жили в мансарде, называемой комнатой под балкой, и моя мать смотрела на закат с балкона и слушала звук горна в находившейся неподалеку казарме, ожидая прихода моего отца, который так усердно трудился на поле, что всегда возвращался домой затемно.
Они создали меня, породили, передали мне все, что имели и чего у них никогда не было: слова, страх, нежность, имена, боль, форму моего лица, цвет глаз, чувство, что я никогда не покидал Махины и в то же время вижу, как она исчезает вдали, в глубине бесконечной ночи, под все еще красно-фиолетовым на горизонте небом. Это не город и даже не патетическое чувство ностальгии, которое развеется так же быстро, как дым костра, зажженного ветреным дождливым днем в оливковой роще, это география огней, подрагивающих вдалеке, словно масляные лампады, и остающихся позади на южном горизонте, по мере того как я, не в силах остановиться, продвигаюсь вперед, к горной цепи, просверленной туннелями, где проходит скорый поезд на Мадрид. Иногда, внезапно, я уже не в Махине и не знаю, где найти ее, думаю о своем деде Мануэле и бабушке Леонор, но могу представлять их себе лишь уничтоженными старостью и сидящими рядышком на клеенчатой софе, дремлющими без достоинства и воспоминаний перед телевизором. Гаснут имена, которыми я жил, превращаясь в мертвые слова, без звучности и значения, как куски свинца, и меня наполняют другие слова, неискренние, банальные, витиеватые и напыщенные, которые я слышу на другом языке в наушниках кабины синхронного перевода и повторяю на родном так быстро, что через мгновение уже не помню сказанного мною.
Я продолжаю вспоминать, но теперь это уже другое, теперь рассказывает не взгляд, а бессильная память, я не чувствую запахов зимы и приближающегося дождя, и мокрых листьев, гниющих среди темных комков земли, я не содрогаюсь ни от счастья, ни от ужаса, не вижу площади Генерала Ордуньи, ни статуи, ни часов на башне, не угадываю за задернутыми шторами комиссариата тень инспектора Флоренсио Переса, отбивающего стихотворный ритм пальцами и рассматривающего фотографии женщины, замурованной семьдесят лет назад: на столе его кабинета их только что оставил Рамиро Портретист – это те же фотографии, которые я сам, в другой стране и в другое время, держал в своих руках. Я закрываю глаза и замираю на несколько секунд, мне не хочется ни слышать, ни обонять, ни осязать то, что мне не принадлежит, а лишь то, что было со мной всегда, пусть даже неосознанно: несколько имен, некоторые ощущения, лицо моего прадеда Педро, бабушки Леонор и моей матери на фотографии, которую я считал навсегда потерянной, а сейчас ношу в своем бумажнике как тайный трофей, запах шкафа, где хранили жестяную коробку с банкнотами периода Республики и мундир штурмовой гвардии, принадлежавший моему деду Мануэлю, разорванный шелковый зонтик, схороненный в глубине комода, мрачное звучание радиосериала, стихи Антонио Молины, песня Джима Моррисона, которую мы слушали с друзьями в баре «Мартос», лицо Нади в то далекое октябрьское утро, ее теперешний взгляд, темные волосы с медным отливом, блестящие в незаметно подступившем сумраке. Она приподнимается, чтобы включить свет, но я удерживаю ее, прошу подождать еще немного, представляя, что именно сейчас в Махине загораются лампочки на углах и в тихом воздухе разносится колокольный звон с площади Генерала Ордуньи, а в отдалении слышен горн в казарме, мне кажется, будто я различаю стук колес дона Меркурио и удары железным молотком в большие запертые двери Дома с башнями, будто стемнело пока я играл на улице со своим другом Феликсом, и возвращаюсь домой, боясь, что за освещенным углом появится свирепый призрак тети Трагантии. Но это невозможно: взглянув на часы, светящиеся на ночном столике, я понимаю, что сейчас не то время в Махине – и не только потому, что нахожусь на другом континенте, по другую сторону океана, но и потому, что обычные часы не годятся для измерения времени, существовавшего лишь в этом городе во всем прошлом и будущем, необходимом для того, чтобы сейчас я был тем, кто я есть, чтобы лица живых и мертвых собирались перед моими глазами, как в бездонном сундуке Рамиро Портретиста, чтобы в моей жизни появилась Надя.
* * *
Не из беспристрастного стремления знать, а из взаимной необходимости отыскать друг друга в событиях, предшествовавших им и участвовавших в их зарождении, Мануэль и Надя перебирают содержимое сундука, завещанного Рамиро Портретистом майору Галасу, и, следуя течению голосов, добираются до истории о молодом враче, недавно приехавшем в Махину и похищенном неизвестными в карнавальную ночь во вторник. Они спрашивают себя, какая доля правды могла сохраниться от этой истории через столько лет и в трех различных рассказах, отделенных друг от друга долгими промежутками тайны и молчания. То, что произошло однажды, что оставалось необъясненным на протяжении семидесяти лет и продолжало влиять, без чьего бы то ни было ведома, на скрытый порядок вещей, оседает сначала в памяти первого свидетеля, а потом в выслушанных и сохраненных Рамиро Портретистом словах, переданных майору Галасу, когда уже нет в живых никого, к чьему свидетельству можно было бы прибегнуть. Живым остается то, что мертвые захотели передать им – не только слова, предположения, даты, но что-то такое, что сейчас им обоим намного важнее, часть причин их жизней, упорное, коллективное, непреднамеренное и слепое усилие, придавшее форму их сегодняшним судьбам. Поэтому они находят, благодарят и знают, поэтому они смотрят фотографии и восстанавливают слова и события, и чем больше узнают, тем больше боятся, что что-то из произошедшего могло случиться иначе, уничтожив сто, или тридцать лет, или два месяца назад слабую вероятность их встречи.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
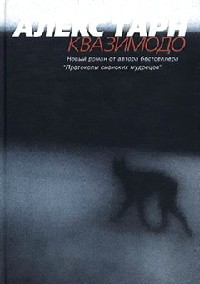
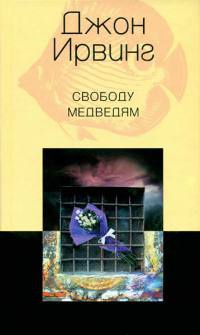

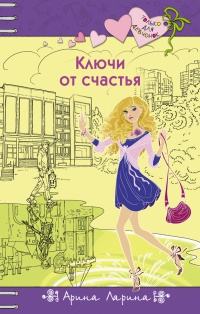

Комментарии