Конец Монплезира - Ольга Славникова Страница 5
Конец Монплезира - Ольга Славникова читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Очень скоро внешнее время изменилось так, что даже в газете «Правда» не осталось ничего пригодного для переработки Марининым пером. Но к моменту, когда в советских душных помещениях вдруг повышибали окна (когда еще сравнительно молодой и щекастый Апофеозов в одночасье превратился из первого секретаря райкома в публично растерзавшего крепкий партбилет демократического лидера), — время внутреннее уже успело устояться. Теперь оно само держалось в комнате и обладало еле уловимым собственным запахом, не имевшим предметного источника и напоминавшим слабую кислятину сгоревшей спички. Все здесь проявляло склонность к неподвижности, к засыпанию в неудобной позе; это особенное качество автономного времени Нина Александровна улавливала на самой границе между бодрствованием и сном, когда внезапно сливалась с окружающим и не чувствовала ничего, кроме собственного веса — бывшего блаженством, но говорившего Нине Александровне об ее усталости больше, чем любой гипертонический приступ. Днем она замечала, что вес большинства предметов в комнате приятен в руках.
Что-то подсказывало Нине Александровне, что в закупоренном времени нет какой-то главной разницы между порядком и беспорядком. Она не могла не видеть, что вещи в комнате обладают свойством накапливаться и терять повседневный смысл. Бессмысленность особенно проявлялась во время уборки. Нина Александровна упорно боролась с густой и удивительно ровной пылью, охотно садившейся на мокрое и очень быстро превращавшей питательный пролитый чай в шерстяное пятно. Она без конца протирала, перещупывала, как слепая, все нужное и ненужное. Вероятно, Евгения Марковна про себя удивлялась тому стерильному хаосу, что поддерживался вокруг больного, когда фарфоровые фигурки на серванте выглядели будто произведения уборки, вылепленные рукой и тряпкой сияющие штучки, — и тут же теснились пустые, которые давно пора бы выбросить, аптечные бутылочки, тоже свежепротертые, ясные до видимой на дне лекарственной слезы. Застекленный брежневский портрет, на который врачиха не смотрела, но всегда оглядывалась, выходя из комнаты, тоже был со следами тряпки, с лиловой радугой от дешевого стеклоочистителя; когда, управившись с портретом, Нина Александровна осторожно спускала на пол заголившуюся ногу с пухлыми поджилками и в два приема слезала с покачнувшегося стула, Алексей Афанасьевич удовлетворенно прикрывал правый большой и левый маленький глаз, будто увидел перед собою именно то, что хотел.
Несмотря на то что скептический Климов, бывший против всей этой затеи (тогда еще не пораженный в правах, но со слезами защищаемый от малейших попыток тещиной критики), не раз замечал, что уж если сохранять атмосферу семидесятых, то лучше повесить портрет Высоцкого, — Марина, руководимая чутьем, совету мужа не вняла. Была, конечно, в частном брежневском портрете некая фальшь, даже иностранщина: как сказал Сережа, подвизавшийся тогда при бешено доходном, несмотря на запахи канализации, вокзальном видеосалоне, — «реквизит голливудского фильма про советскую жизнь». Однако законсервированное время, пережившее в отдельно взятой комнате свой насильственный конец, явно обладало собственными свойствами, которых в его натуральном виде никто не наблюдал.
Свойства эти были каким-то образом связаны с бессмертием. Омоложенное фото генерального секретаря, несомненно сделанное при жизни, но состоявшее наполовину из документального отпечатка, наполовину из ретуши, поражало той же самой полунарисованностью, какая бывает только у мертвых человеческих черт; точность впечатления была такова, что Нина Александровна, осознав, что именно ей напоминает бессильная складка брежневского рта и гробовая аккуратность подштрихованных волос, стала протирать портрет с опасливой почтительностью, избегая заглядывать на его оборотную сторону, где имелся полустертый инвентарный номер.
Но вот что удивительно: генеральный секретарь, чья смерть оказалась отменена, чье долголетие перешло естественную черту и продолжало прирастать, каким-то образом перенял у Алексея Афанасьевича ту доподлинность, которой сам по себе никогда не обладал. Если раньше Брежнев был условным человеком, за которого писали книги и на которого, словно играя в крестики-нолики, навешивали взаимоисключающие ордена, то теперь в его существовании сомневаться не приходилось — хотя бы потому, что генеральный секретарь, даже если допустить на то его желание, больше не мог умереть. Тоже ветеран Великой Отечественной войны, он был теперь во внешнем времени не мертвым, но пропавшим без вести. Он решительно отмежевался от тех ветеранов с лицами спившихся школьников, что шли, пришаркивая, за новыми коммунистическими лидерами и продолжали жить сегодняшним днем, — и присоединился к беспартийному Алексею Афанасьевичу, с которым у него проявилось даже некоторое портретное сходство. Любой вошедший в комнату (куда на самом деле почти не пускали посторонних) мог бы увидеть стершийся, как монета, лоб парализованного, пару хвойных, низко нависающих бровей — и то же самое на стене, оклеенной дешевыми обоями в посудохозяйственный цветочек. Даже Нина Александровна как-то поддалась успокоительной иллюзии, будто Брежнев на казенном портрете — вовсе не бывший глава Советского государства, а попросту какой-то дальний родственник.
Разумеется, перед Мариной, как перед автором проекта, не мог не встать вопрос: нуждается ли призрачное время в каких-нибудь событиях. Поскольку главное естественное событие — смерть — было здесь отменено, невозможны оказались и смежные с нею происшествия: болезни, увечья, смена кадров в любом руководстве и так далее — при попытке додумать этот ряд даже решительной (на многое решившейся!) Марине становилось не по себе. Создавалось ощущение, будто ряд уходит очень глубоко и так пронизывает жизнь, что по нему можно добраться до чего угодно — вообще до такого, что и не мыслил никогда в связи со смертью, — будто эти корни при попытке вырвать вершок вдруг обнаруживают страшную тягу в стороны и в глубину и только чуть приподымаются, как невод, груженный всею почвой, какая только есть под человеческими ногами. Так или иначе, Марина запретила все, что могло вызывать отрицательные эмоции (в этом смысле ее застой достиг совершенства). Она решительно пресекала любые попытки Нины Александровны сообщить больному хотя бы что-нибудь частное — о том, например, что в соседнем подъезде обокрали квартиру или что племянник Алексея Афанасьевича отравился паленой водкой. «Мама, деньги!» — страдальчески восклицала Марина, видимо, все-таки имея в виду сердце Алексея Афанасьевича и при этом держась за свое, которое тоже было и, пухлое, билось под грудью. «Доченька, болит?» — «Мама, отстань!»
Получая привычный ответ, Нина Александровна чувствовала с левой стороны, под ребрами, тонкую ломоту, отдававшуюся тяжестью в самых кончиках пальцев, — но, понимая, что уж ее-то болезни сделались с укреплением внутреннего времени просто невозможны, уносила все это куда-нибудь на кухню. Сердце Алексея Афанасьевича, которое следовало беречь как главное достояние семьи, представлялось ей теперь багровым крупным корнеплодом, для которого парализованное тело стало чем-то вроде грядки, оплетенной синими набухшими корнями.
* * *
Странно было думать, что это сердце когда-то ее любило: да было ли это? Когда-то Нина Александровна была красива правильной, несколько водянистой красотой, настолько лишенной собственных красок, что взгляду было буквально не за что зацепиться. Ее овальное лицо, сделанное в старомодной и тонкой манере уроков чистописания, совершенно не выдерживало той внутренней темноты, в которой всякий человек хранит и воспроизводит зрительные образы, — и потому не сохранялось в памяти даже прекрасно знающих ее людей; испытывать к ней какие-то чувства во время ее отсутствия было невозможно. Вероятно, тут имелась некая тайная связь со страхом простой физической темноты, который Нина Александровна никогда не могла преодолеть.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
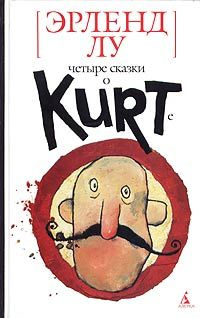
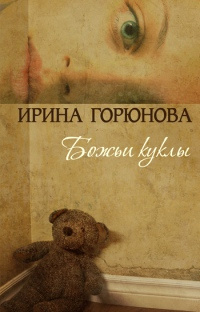
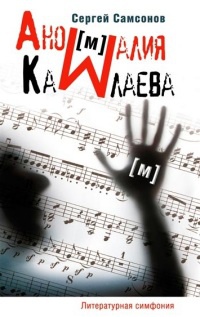
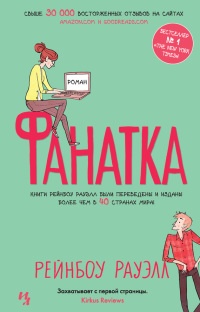

Комментарии