Сестра Зигмунда Фрейда - Гоце Смилевски Страница 5
Сестра Зигмунда Фрейда - Гоце Смилевски читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Таким образом, евреи сами стали причиной своих страданий, любому преступлению по отношению к ним мой брат нашел оправдание. Он сделал это тогда, когда ему была необходима поддержка его народа, тогда, когда кровь, текущая в наших венах, стыла от ужаса, от которого трепетали и наши предки.
Задолго до написания «Моисея и монотеизма» мой брат впитал вкус страдания евреев, изгоняемых в чуждые им земли, проклинаемых из-за отличных религиозных убеждений и отличного происхождения, сжигаемых потому, что те, другие, которые считали себя правоверными, на протяжении столетий ложно обвиняли их в отравлении колодезной воды, распространении чумы, заключении договоров с дьяволом; еще с молоком нашей матери он впитал этот горький вкус.
Мы впитываем этот горький опыт предков с молоком матери, а потом хороним его, желая стать частью новой Европы, забывая о том, что однажды Европа снова вопьется в нас своей кровожадной пастью. Поверив в новую Европу, мы забыли судьбу наших близких и далеких предков, забыли о той крови, которая была из них высосана за то, что они были другой крови, забыли бесчисленные судьбы униженных, ложно обвиненных, изгнанных, замученных, умерщвленных, покинутых и Богом, и дьяволом. Мы забыли их, забыли их кровь; мы — кровь от их крови. И мой брат, вспомнив о тех, чья кровь течет и в наших жилах, лишь вскользь упомянул об их страданиях и в этих страданиях обвинил их самих — страдальцев: «Но из-за этого им пришлось, так сказать, «взять на себя» трагическую изначальную вину всего человечества. Им предстояло дорого за это расплатиться».
Всю жизнь брат в своих сочинениях пытался доказать, что в основе существования рода человеческого лежит вина: каждый виновен, потому что каждый когда-то был ребенком, а всякий ребенок в борьбе за материнскую любовь желал смерти своему сопернику — отцу. Так говорил мой брат Зигмунд. Он обвинял самых безгрешных; самые невинные и самые беспомощные были носителями первородного греха. Тех, кто только начинал жить, он обвинял в том, что они возжелали смерти тех, кто даровал им эту жизнь.
В отношении себя к этой вине, которая, по его мнению, была присуща всякому человеческому существу, он добавлял еще одну: он помнил, как в возрасте полутора лет пожелал смерти только что родившемуся брату Юлиусу, и тот умер шестью месяцами позже.
Значит, мой брат был также и Каином, и к нему относились слова Бога: «Что ты сделал? Послушай! Кровь твоего брата взывает ко Мне от земли». Был он и Ноем, который накануне Потопа вошел в ковчег, а вместе с ним — его семья и «всякий зверь по своему роду, всякое домашнее животное по своему роду, всякое двигающееся животное, которое передвигается по земле, по своему роду, и всякое летающее создание по своему роду, всякая птица, всякое крылатое создание».
Только для нас четверых не нашлось места в списке брата. Он был Эдипом, был Каином, был Ноем, но в своих сокровенных мыслях мечтал быть пророком, потому и отнял Моисея у евреев — он сам жаждал стать единственным, всевышним, самоначальным — именно так мой брат представлял того, кого люди провозгласили избранником. Он мечтал вести народ к освобождению собственного Я, к освобождению человеческой сущности от оков гнета и мрачных глубин подсознательного, подобно Моисею, ведущему свой народ к свободе земли обетованной. И поэтому каждая страница книги о Моисее будто кричала: «Ни он, ни я — не евреи; я, как и он, божественный вождь и пророк!»
Тем вечером, когда наш брат навсегда покинул Вену, мои сестры тихо переговаривались о том, что он, будучи в Лондоне, заручится помощью своих друзей и постарается как можно скорее помочь и нам. Я слушала слова моих сестер, пропитанные ужасом, — а мне вместо апокалиптических картин виделся только поднятый перевязанный палец моего брата, которым он покачивал в воздухе.
Иногда из Лондона нам звонили Анна и Марта и сообщали о том, что Зигмунд перенес еще несколько операций на ротовой полости, но сейчас выздоравливает, хотя больше не может говорить. Из-за рака был также поврежден слуховой нерв, поэтому с ними он объясняется с помощью письма. Я вспомнила то время, когда мы были детьми и брат учил меня писать.
Марта и Анна рассказывали, что живут в красивом доме в тихом пригороде Лондона, и постоянно нас уверяли, что друзья Зигмунда делают все возможное, чтобы мы, его сестры, получили визу на выезд из Австрии, а затем поселились с ними.
А мы научились жить в страхе; это был страх не перед смертью, но перед издевательствами. Всех евреев заставляли носить на рукаве звезду Давида, чтобы нас легче было контролировать. Мы больше не могли посещать театр, оперу, концерты; не могли ходить в рестораны и парки; не могли пользоваться такси; нам разрешалось ездить на трамвае, но только в последнем вагоне; мы могли выходить из дома, но только строго в определенное время; и мы могли пользоваться всего двумя почтовыми отделениями в городе.
В сентябре нас посетил один из сыновей брата моей приятельницы Клары и сообщил, что она умерла в психиатрической клинике Гнездо, где провела много лет. Он предложил мне пойти с ним на похороны. Мои сестры гостили у нашей соседки, я оставила им записку.
За несколько месяцев до этого новая администрация внесла очередное изменение в жизнь города: издали приказ о запрете хоронить на городском кладбище умерших в специализированных клиниках, теперь это можно было делать только в парках больниц. Так их и закапывали — в парках, в неглубоких ямах, в простыне, заменявшей им гроб.
Я вошла в комнату. Клара лежала неподвижно. Мне сказали, что она умерла во сне. Ее лицо было очень спокойным, на нем не было и следа сна, жизни или смерти. Она лежала, свернувшись калачиком, с поджатыми ногами, головой прижатой к груди, обхватив руками живот. Тело ее уже окоченело. В таком положении мы завернули ее в простыню.
— Как зародыш, — сказала я, когда мы выносили ее из палаты, которую она называла маткой.
— Слишком велика для зародыша, но мала для человека, — заметил кто-то из докторов.
И действительно, никто бы и не подумал, что в простыню завернуто человеческое тело.
Шел сильный ливень, и нас, вышедших в парк, едва ли было больше двадцати человек. Остальные замерли у окон больницы и наблюдали через решетки. Мы опустили простыню с телом в приготовленную яму. Люди лопатами засыпали мертвую сырой землей.
Когда вечером я вернулась домой, мои сестры сидели в столовой. Роза посмотрела на меня покрасневшими глазами и сказала:
— Звонила Анна. На прошлой неделе умер Зигмунд.
— Умерла Клара. Сегодня ночью, — сказала я.
— Его кремировали.
— Сегодня мы похоронили ее во дворе больницы. Вырыли неглубокую могилу. У нас не было гроба. Мы завернули ее в простыню. Был дождь.
На улице лил дождь. Капли громко ударялись о стекло, и их стук звучал в такт нашим словам.
Я ушла в свою комнату. Легла на кровать и стала думать о брате. Я не пыталась представить последние минуты его жизни. Не пыталась нарисовать в своем воображении картину, как он лежит почти неподвижно. Не хотела слушать, как он, собирая последние крупицы сил, заставляет себя вдыхать и выдыхать, не хотела знать, какие мысли крутились у него в голове в те мгновения — мучила ли его мысль о сестрах, которые постоянно звонили ему и умоляли найти способ помочь им уехать из Вены, испытывал ли угрызения совести из-за того, что их, возможно, отправят в лагеря смерти. Я не пыталась представить последние минуты его жизни, мне было достаточно знать, что он мертв, обрел покой, избавился от телесной боли и душевных терзаний, потому что по ту сторону душа становится свободной от всех тревог и чувства вины. Только здесь душа не может полностью смириться с тем, что все так, как и должно быть, и она сделала то, что должна была сделать, дабы послужить некоему скрытому от нас высшему порядку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
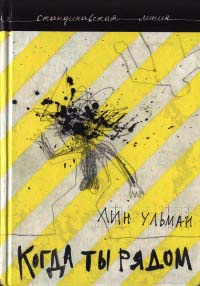
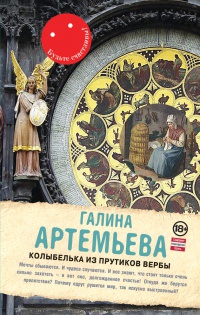
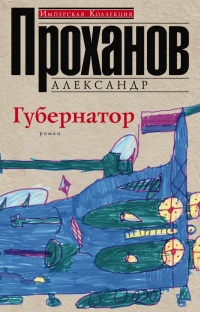


Комментарии