Милые мальчики - Герард Реве Страница 49
Милые мальчики - Герард Реве читать онлайн бесплатно
— Да, уж это точно. — Мышонок прерывисто дышал, посапывая, и вдруг закашлялся.
— Он встает, Фонсик, в твоем красном спортивном автомобиле, и в следующую секунду уже стоит во весь рост, у руля. Ты выскакиваешь, с быстротой молнии выскакиваешь ты, Мышонок, обегаешь машину и распахиваешь перед ним другую дверцу. Она — точно лепесток цветка, эта дверца. Машина полностью открыта сверху, в вышине — бесконечный зеленый лесной купол, и Фонсик застыл в твоей кроваво-красной машине, словно восстав из кроваво-красной, бархатистой чашечки лотоса, лона, его породившего, в белоснежной, неслыханной непорочности своего тонкого белого бумазейного свитерка над грешными, дивно прекрасными, черными как ночь, бархатными юношескими брюками, скрывающими его порочные и все же по изначальной сути своей невинные бедра и юношескую промежность: безгрешность от греха, Свет из тьмы багряной, которая, в сущности, сама есть свет… Положи этот свитерок на простертые ладони и вынеси его к людям, и пусть они закроют глаза и приблизят руки к этому свитерку, и ощутят исходящее от него сияние, и спроси их тогда: «Разве эта белизна не есть невинность вечная?.. невинность на все времена, невинность на веки веков? Чист? Чист!» А тот, кто будет болтать другое… осмелится… я тому башку оттяпаю… как нечего делать!
Мышонок лежал тихо, ничего не отвечая. Неясно было, понравилось ли ему такое продолжение. И было еще вопросом, смогу ли я довести до конца поставленную передо мной задачу, или же задачу себе поставил я сам, и ее нужно было решить… Это было так безбрежно, все это, одна дорога вливалась в другую, и выберусь ли я когда-нибудь на верный путь… А если еще учесть, что все должно быть записано в книгу, но так, чтобы не возникало разночтений, кто был кем… и кто кого любил, и почему, со всем сопутствующим нытьем по поводу того, что тот-то и тот-то сболтнул то-то и то-то да еще и пообещал, что несомненно вернется к этому страниц через сорок шесть-пятьдесят…
— А потом? Вы вышли… Фонсик вышел… и вот…
— Да, он шагнул к двери, которую ты распахнул перед ним, и задержался на краю, на миг, всего на несколько мгновений, перед тем как выйти. Отсвет красной кожаной обивки сокровенным пламенем сверху донизу облил его силуэт. И весь лес затаил дыхание. Ты все это время уже слышал, как дышит лес, но теперь воцарилось молчание, и ты услышал его… И среди деревьев ты заметил олененка, что глядел на Фонсика, желая погладить его ноги, колени, его межножье двумя своими пушистыми бугорками, которым еще предстояло стать рогами — поскольку только так сумел бы он выразить свою глупую, бессловесную любовь… Но, встретившись с тобой взглядом, он опустил голову, прянул ушами и с шорохом умчался прочь, назад, в темную чащу… И все прочее мелкое зверье, со своими пушистыми хвостами и темными бархатными мордочками желало сделаться ступенями лесенки, по которой Фонсик снизойдет из машины на землю. И ты бы тоже этого хотел, Мышонок… Ты тоже хотел бы, чтобы он ступал по тебе, попирая ту заветную частицу тебя, в знак того, что ты принадлежишь ему… Ты хотел бы опуститься на колено, сцепив руки подножкой, стременем, чтобы его нога, неуверенная, словно охваченная трепетом благодати, совершила этот единственный шаг. Но больше всего тебе хотелось бы преклонить оба колена, Мышонок, и уловить его ногу, уже поднятую, и покрыть ее поцелуями, и пасть навзничь и утвердить ее… у себя на лице, Мышонок, прямо посередине, и паче упования возуповать на то, что он хотя бы на мгновение всем весом опустится на тебя, и какой-нибудь небывало острый камешек или отточенный металлический кончик шнурка испятнает, иссечет твои черты, превратив нос и рот в два багровых кровоточащих шрама… Но ты не бросишься на землю и не упадешь на колени. Этого ты делать не должен…
— Но вот именно этого мне бы и хотелось, встать перед ним на колени…
— Это чрезвычайно мило с твоей стороны, и в высшей степени объяснимо, Мышонок, но ты не должен этого делать — по крайней мере, пока не должен: он этого не поймет. Потом, потом… тогда можно… настанет такой день и час, на опустевшем подоконнике в кухне пропахшего гарью заброшенного дома, через который вы пробираетесь, как на войне, потому что опять война… И вот… вот начинается смертоносная бомбежка, и тогда ты внезапно опускаешься на колени, и больше никаких сомнений, даже в том, что…
(О, что подумаешь Ты, Владычица? Я не могу — один не могу. Ничего, совершенно ничего не получится, если Ты не поможешь мне. Я бы хотел Тебе кое-что предложить. Вся эта книга будет — для Тебя, посвящена Тебе, целиком. На первой странице я поставлю имя Твое, без сокращений, полностью. Я напишу Твое имя полностью. И никаких там: «Для» или «В честь», нет, я напишу: «Эта книга посвящается» — и затем Твое имя, которое есть Ты: в этом нет никаких сомнений, по крайней мере в том, что касается Тебя. Я скажу… Все, что в этой книге окажется удачного, я припишу Тебе… а все, что не удастся — себе. Воистину так.)
— А почему мы, собственно, выходим? Что там смотреть-то? То есть, для чего мы вообще туда заехали?
— Потому что так надо, Мышонок. Как только Фонсик уселся рядом с тобой и вы тронулись с места, за рулем словно бы уже был не ты. Вы мчались вперед, ты выезжал на перекрестки, сворачивал или проносился прямо, сам не зная почему. Кто-то другой управлял машиной вместо тебя… и вот так вы добрались до этого места в лесу. Священного места. Многие, многие годы здесь не бывало ни души. Поэтому звери и осмеливаются выходить на опушку и разглядывать вас. Невероятно любопытные, выглядывают они из темных, крупнолистых, низко стелющихся зарослей плюща. Повсюду — пары темных мерцающих звериных глаз, словно неподвижные раскаленные угольки. Они смотрят, теснясь и толкаясь, чтобы лучше видеть, малыши от нетерпения начинают проказничать, щекочут друг друга, а взрослые, пытаясь утихомирить их, то и дело дают им тычка… Скок-поскок, вот что им любо… И клекот, и писк, и гвалт… звери так разговаривают: они не умеют говорить, как мы…
— Боже, Боже, Боже праведный…
— Да, но ведь это же правда? У животных есть нечто вроде речи, но она не такая, как у нас. Разговаривать, как мы, они не могут. Конечно, существуют так называемые говорящие животные, тебе это известно, но ведь это не настоящая речь. Они могут произносить слова, но сами их не понимают. Мы слышим эти слова и говорим: послушай-ка, эта зверюшка умеет разговаривать, но в действительности ведь это не так. Мы эти слова понимаем, а сами звери — нет. Весьма односторонне. Знавал я одного попугая, так он целую строку из песенки мог пропеть. А жил он на Ондерлангс 4, или 14, Таюндорп Ватерграафсмеер, хочешь, поди спроси. Не то чтобы такая крупная птица, так себе, попка. Он тут больше не живет, либо они переехали, либо уж он помер, хотя известно, что до таких лет они доживают, невероятно. Как вчера помню: был у меня один знакомый попугай, так он столь глубоко скорбел о смерти нашей старой Королевы, что просто-напросто отказывался праздновать день своего рождения в какой-либо другой, кроме ее, в конце лета… Оделял детишек орехами и так слегка их поклевывал, но всегда тихонько, очень добродушно.
Мышонок взвыл.
— Глаза всего зверья устремлены теперь на Фонсика. Они следят за каждым его движением, в то время как он уже занес ногу, чтобы выйти из машины. Из-под своих длинных мальчишеских ресниц он медленно обводит взглядом лесную опушку. Он не видит зверей, поскольку свет падает на скрывающую их темную листву, но всякий раз, когда он, сам того не зная, встречается взглядом с одним из них, зверь, не в силах выдержать его взора, опускает глаза, и, оступаясь, неловко пятится назад. Такова сила Фонсикова взгляда, скользящего по кромке леса — подобно волне или дуновению ветра заставляет он листву трепетать. Его нога касается пружинящей, сухой, устланной хвоистым ковром земли, и словно грозовым разрядом пронизывает весь лес, и звери в высшей степени предусмотрительно, совершенно бесшумно, отступают на семь шагов назад и замирают там… Фонсик стоит теперь рядом с тобой, на этой прямоугольной заброшенной лесной поляне… Какие только мысли не проносятся в твоей голове, Мышкин-зверь… Это такая поляна, знаешь ли… очень отдаленно похожая на то место в ***ском лесу, стоянка, помнишь, где мы вышли с тобой вдвоем и… тот тип еще медленно так выруливал перед тобой на своем роскошном зеленом моторе, он на тебя просто слюной исходил, но рожа мне его не понравилась, он не то чтобы старый был, просто с ходу очень здорово напомнил мне такого, знаешь, уличного молодца: «мешалки-взбивалки-продам-для-мадам!». Но в другой раз, Мышонок, в другой раз… Я сожалею, что придержал тогда вожжи твоего беспощадного вожделения… В следующий раз, когда мы с тобой выйдем там погулять и я поставлю там грузовик, в мой очередной выходной, когда я вернусь после одного из этих длиннющих чертовых перегонов в Льеж и Авалон… тогда… тогда… Да, Мышонок, нельзя натягивать лук до бесконечности. Небольшое отклонение от программы. Жизнь — не всегда сказка. Вернемся-ка к действительности и нормальной, обычной повседневной жизни. Мы идем на эту поляну, и ты, в своей кожаной куртке, позволяешь своей жертве увязаться за собой. Они, это трусло забитое, смываются малость пораньше со своей каторги, между четырьмя и пятью часами пополудни, наврав шефу что-нибудь этакое, а домой им нужно по крайности к без четверти шесть, как раз к тому времени, когда картошка начнет развариваться… Они думают, что у истинной любви бывают определенные приемные часы — по рабочим дням, с четырех до пяти-полшестого, с соблюдением служебной тайны и все такое. И вот они прокрадываются по лесным дорогам в своих заляпанных или, наоборот, нелепо наблищенных, чуть дороговатых авто, останавливаясь, снова трогаясь, нерешительно петляя между деревьев… Ты выискиваешь какого-нибудь трусоватого представителя, перемазанного клеем и средствами для его отмывки, чем они там его отмывают, в грязной зеленой машине, дома у него жена и двое вечно хнычущих отпрысков. Нельзя сказать, чтобы красавец, на плечах у него этакая тыква с чересчур аккуратным пробором, но ничего, сойдет, с этой его квадратной задницей асфальтоукладчика, упакованной в чересчур просторные, надо сказать, модные зеленые брюки, дающие, однако, наглядное представление о его коммивояжерском седалище… На нем — куртка, в сущности — скорее джемпер типа «вроде-как-в-моде», купленный на распродаже, из тех, какие приличная публика надевает, чтобы в воскресный день погонять в мячик с сынишкой или посидеть у горящего камина… Ладно, это все не суть… Он следует за тобой, забирается в мой грузовик, но там еще и я, и он шарахается прочь, но я успокаиваю его: «Давай сюда свою куртку…» И аккуратно вешаю ее на плечики. А потом задергиваю занавески в кабине. Дверцы — на замок. Я говорю: «Снимай туфли». — «Зачем?» — спрашивает он. Я говорю: «Ковер попортишь». Он малость смущен, но складывается пополам и развязывает шнурки. Он нагибается, Мышонок… Он стоит, согнувшись, и мы созерцаем его обтянутую брюками задницу… Я преаккуратнейшим образом задвигаю его туфли в уголок… Куда нам спешить, верно? А потом командую: «Спускай штаны». Он медлит и мычит и несет какую-то херотень. И вот тут я хватаю его, заворачиваю ему руку за спину и приступаю к допросу: «Имя? Где живешь? Место работы, точно? Ах, вот оно как?.. Где документы? Чья машина?» Такова жизнь, Мышонок… Те басни, которыми я тебя тут кормлю в постели, они — охотно допускаю — вполне съедобны, но жизнь, как она есть, это все-таки нечто невероятное, я имею в виду, просто все, что ты переживаешь, как работник умственного или там физического труда, или домохозяйка… Я хочу сейчас… сам… да, все во славу твою и честь и величие твое, послушай, я люблю тебя, не о том речь, я ничего такого ни с кем, кроме моего законного… но если ты мне позволишь… я тут слева… я подержу тебя за мешочек, но можно мне еще руку тебе под попку, знаешь, мое запястье у тебя почти в самой расселинке… да, вот так… а теперь я своей левой сам с собой поиграю? Я уже почти готов… Вопрос двух минут… Никаких больше поправок или заявлений недоверия, будьте любезны. Что скажешь? Если мы в будущем это сделаем, как полагается… сделаем вместе… ты их притягиваешь… Ты молодой, светловолосый, красивый… Они бегают за тобой, с колотящимся сердцем… И вот, когда он у нас в грузовике, кузов обклеен чем-то там в цветочек, и там ночнички, и занавеси с кистями, и часы с кукушкой, штаны у него ниже колен и я устраиваю ему допрос с пристрастием, для тебя, любовь моя, милый, можно? И я… если позволишь… но только если ты хочешь, тогда… я врываюсь в него сзади, дабы наказать его, за то, что он смотрел на тебя… Я ударяю… для тебя, я вталкиваюсь в него своей такой матерой, шипастой, узловатой, для тебя… набухшей до невероятных размеров дубиной, и терзаю его: ей-богу, я шурую в нем, пока там у него не занимается пламя, в самых недрах, и щиплю его чахлые мехи, внизу, там, где я тебя сейчас держу, но его я там щиплю, для тебя, так, что он взревывает… Я беснуюсь в пляске, я ударяю в него своим изощреннейшим единомужерогом, незапятнанным, для тебя, поскольку я не сплевываю, нет, я не плюю в него… Нет, я использую свой рог только и исключительно для пытки, потому что он принадлежит тебе, и потому что я принадлежу тебе, и потому, что моя для тебя и в твою честь занесенная полицейская дубинка — только для тебя, только твоя… Я плюну лишь потом, много позже, совсем рядом, рядом с тобой, только с тобой… но не в него. И ты… ты… ты не коснешься его, Мышонок… Ведь ты — принц, принц крови… Ты тормошишь себя, потому что я умоляю тебя об этом, продолжая терзать его, все жесточе… покуда… ты… ему… не плюнешь… прямо в лицо… и не ударишь… и я… и я вижу твою попку в зеркале… я вижу… Тебе нравится… зверь… юная бестия… тварь…
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
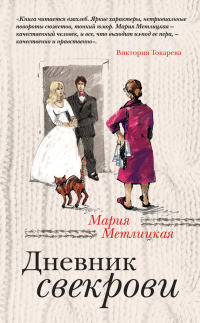




Комментарии