Ночь будет спокойной - Ромен Гари Страница 49
Ночь будет спокойной - Ромен Гари читать онлайн бесплатно
Ф. Б. А для французских газет ты никогда этого не делаешь?
Р. Г. Один раз для «Франс-Суар», когда начальником был Лазарефф, это был большой репортаж о Красном море. Он прошел на ура, но стоил мне очень дорого в смысле заражения всякого рода вирусами; дома я больше не чувствую себя комфортно, я словно у кого-то другого, в гостях у господина, которому скоро стукнет шестьдесят. И потом, слушай, новый директор одной большой газеты приглашает меня на беседу. Предлагает мне переделать один большой репортаж. Разговор заходит о расходах, мне предлагают крохи. И вышеназванный босс заключает: «Для вас ведь репортажи — это отдых…» Представляешь? Большой репортаж — это грязь, неприятности, истощение, глисты… А он говорит: «Для вас это отдых, не так ли?» Впрочем, обаятельный человек, мы очень вежливо распрощались. К счастью, в Нью-Йорке есть Ланц. Не знаю, что бы я без него делал. Пять лет назад я заболел, думал уже, что загнусь, и тогда я в последний раз захотел посмотреть на слонов в Африке. Я ему телеграфирую. Через десять дней получаю от Ральфа Грейвза, владельца «Лайфа», заказ на большую статью… о слонах. Это надо уметь. Надо уметь такое сделать. Не знаю, что бы со мной было без Роберта Ланца, он мне и мать и отец.
Ф. Б. Что заставляет тебя колесить по свету?
Р. Г. Не знаю. Мне всегда кажется, что в чужих краях что-то есть.
Ф. Б. Что именно?
Р. Г. Не знаю. Что-то, кто-то. Что-то есть, и надо только поискать.
Ф. Б. Что?
Р. Г. Послушай, Франсуа, если бы знали, то уже давно нашли бы и больше не искали и не мучились.
Ф. Б. Иные места, что-то другое и кто-то другой?
Р. Г. Иные места, что-то другое и кто-то другой.
Ф. Б. Это, случайно, не метафизическая тревога?
Р. Г. Нет.
Ф. Б. Тебе не кажется, что тебе кого-то не хватает?
Р. Г. Ну все, довольно, прошу тебя… «Собака без хозяина» — вот как я это называю, это взаимоотношения с Богом либо с отсутствием Бога — Бог ощущается как присутствие или как нехватка, — это всегда взаимоотношения с ошейником и поводком, и мне они совершенно чужды. И я категорически отказываюсь делать рекламу «Обещания на рассвете», эту рекламу, сшитую по заказу и уже готовую, идею которой не перестают мне ненавязчиво подсказывать многочисленные читательницы, те, кто сделал бы из меня, в шестьдесят лет, «безутешного сына», не перестающего печально раскачиваться, как сломанная марионетка, на конце отрезанной пуповины… Со времени выхода книги в 1960-м непонимание только растет. Мне тогда было сорок шесть лет, и мой возраст легко было вычислить, но как раз с того момента я начал получать предложения об усыновлении, которые продолжают сыпаться на меня, словно я все еще мальчик в коротких штанишках. Это невероятно трогательно и вместе с тем поразительно, сколько матерей готовы меня усыновить, предлагая своим собственным детям слегка потесниться, чтобы образовалось местечко для меня. В этом, разумеется, есть соблазнительная легкость — можно выйти на панель, стать чем-то вроде шлюхи, живущей за счет своей собственной книги. Черт! Я теперь старый пес без хозяина и намереваюсь им оставаться, безродным, ничьим, без папы и мамы, и я не хочу рыться в эмоциональной помойке. Разумеется, есть та, уже знакомая тебе тревога, которая побуждает меня к этим гонкам по всему свету в поисках чего-то или кого-то, как ты правильно заметил. Но это не поиск «потерянного дома»: это поиск Романа. Мои гонки по всему свету — это погоня за Романом, за многогранной жизнью. Мне не хватает моего «я», и когда я провожу несколько недель, допустим, в Куала-Лумпуре, живя в небольшом переулке среди малайцев и китайцев, мое «я» диверсифицируется, а когда ты делаешь это пять-шесть раз за год, происходит творческая диверсификация «я», появляется Роман. А главное — начинается творчество, потому что написать книгу или разнообразить свою жизнь — это всегда творчество, перевоплощение, проживание множества жизней, разных, это погоня за Романом. Когда я слишком долго остаюсь в своей шкуре, мне становится тесно, я чувствую себя побитым и начинаю страдать клаустрофобией, но если в это время я пишу роман, то в мире, который я таким образом создал, устраиваюсь и я, на шесть-семь месяцев. Если в это время я мчусь в Полинезию, на Сейшелы или в Орегон, то это во мне говорит потребность в обновлении, в перемене, так как сексуальность, в конце концов, слишком эфемерна и головокружительна и позволяет порвать с самим собой и с повторением одного и того же лишь на очень короткое время…
Ф. Б. Я не знал, что путешествия подготавливают стар… извини, я хочу сказать, зрелость.
Р. Г. Не извиняйся, расслабься: мы с тобой одного возраста… Я хочу быть всеми и во всех, и это делает географию очень заманчивой, так как число романов, в которых ты можешь избавиться от твоего «я», весьма ограниченно, потому что если тебя продержат три дня в Тапачуле, на границе Мексики с Гватемалой, ты живешь в течение всего этого времени жизнью другого, а это тоже своего рода творчество. Так что речь идет вовсе не о бегстве за пределы реальности, а об отъездах ради исследования и завоевания, в хорошем смысле, мира и жизни. Речь идет о любви к жизни, о желании впитывать, о созидании, которое не сводится к одному лишь письму. Например, мне отчаянно недостает Истории, я хотел бы ее пережить, хотел бы ее использовать повторно, прожить жизни Лопе де Веги, Вийона, Сервантеса и жизни всех человеческих галактик прошлого. Эта исчезнувшая История — чудовищная потеря Романа, и я ощущаю ее как нехватку, зияющую рану у себя в боку. Миллиарды томов жизни! Поэтому метафизическая тревога ни при чем. Это жажда жизни.
Ф. Б. Счастье как душевный покой тебе знакомо? Спокойствие духа?
Р. Г. Спокойствие духа — мне это совсем неинтересно; безмятежность, равнодушие, единение со вселенной — я не представляю, что это может дать человеку, который всегда любил здесь и сейчас. Но это очень хорошо помогает при стычках между автомобилистами, при вооруженных нападениях и полицейских грубостях, лучше увлечься дзен, чем заниматься карате. Спокойствие, знаешь ли… Я полностью успокоюсь, когда умру, для того оно и задумано… В моей эскадрилье был пилот, Бордье. Надевая перчатки перед тем, как сесть в самолет, он смотрел на небо, на звезды, затем с удовлетворением произносил: «Ночь будет спокойной». Возвращались всякий раз потрепанные, потеряв целые экипажи, но он, очень довольный, всегда повторял: «Ночь будет спокойной», и его тонкие усики шевелились. А потом он не вернулся, он тоже… Только оранжевый шар вспыхнул в небе… По-моему, он был как раз тем человеком, кто мечтал о спокойствии… Со мной такое случается, конечно, случается…
Ф. Б. Почему ты никогда не создаешь романов из своих репортажей?
Р. Г. Потому что я их уже прожил. Я могу изложить на бумаге пережитый опыт, описать прожитую историю, как я сделал это в «Обещании на рассвете» или «Белой собаке», но я не могу сделать из этого роман, потому что реальность и правда моего уже «отыгранного» опыта ограничивают, сужают мое воображение. В этом и состоит различие между художественным вымыслом и ложью: различие между подлинным изобретательством и изворотливостью, которая искажает и фальсифицирует действительность… Когда я начинаю роман, я не знаю ни откуда я отправляюсь, ни куда я иду, я закрываю глаза и диктую, целиком отдаваясь чему-то, чья природа мне неизвестна. Когда я принимаюсь жить иной жизнью, жизнью другого, как только я начинаю говорить, творчество начинается с прожитого движения фразы, и это движение, этот поток вдруг увлекает меня в XVIII век или заставляет влезть в шкуру французского посла в Риме, с которым я никогда не был знаком, это происходит благодаря игре мысленных ассоциаций, словам, ритму фраз, которые дают рождение роману… И потом, не мешало бы все же когда-нибудь покончить с шуткой о том, что «правдивый» роман только тот, который о пережитом… Самые лучшие описания чумы мы находим в «Дневнике чумного года» Дефо, который никогда не видел эпидемии чумы. Для художника реальное никогда не будет правдой, жизнь — живой. Лучше знать пейзажи, которые хочется описать: это обычно позволяет отказаться от такого намерения. То, что подразумевают под «захватывающим реализмом», это острое ощущение реальности, но этого можно достичь также, заставив беседовать двух призраков. Реализм — это всего лишь техника на службе у изобретательности. Самые реалистичные писатели всего лишь контрабандисты ирреального. Реализм — это убедительная инсценировка мира; это прием, еще одно изобретение, которое скрывает другое, настоящее, то, которое должно пройти незамеченным под страхом художественного провала… Для автора художественного вымысла реализм заключается в том, чтобы не попасться.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


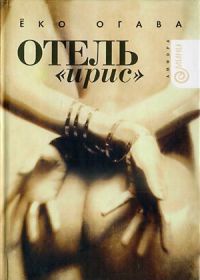
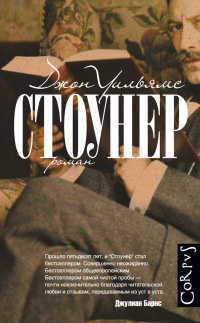

Комментарии