Жизнь Суханова в сновидениях - Ольга Грушина Страница 47
Жизнь Суханова в сновидениях - Ольга Грушина читать онлайн бесплатно
И чем дольше он слушал, тем сильнее кружилась у него голова и тем отчетливее он сознавал, что ничего подобного прежде не слышал, но все же по духу — по своей пронзительной смеси надежды и гнева, печали и стремления изменить этот мир, наполнить его красотой — эти песни были так сродни тем разговорам, которые безоглядно, днями напролет велись на светлых, бессонных сборищах в пору его собственной юности — его слегка запоздалой второй юности, пришедшейся на пятьдесят шестой год; и окружавшие его напряженно-пытливые, лихорадочно серьезные лица были лицами его давних единомышленников, учителей, друзей, а казалось, и собратьев по грядущим испытаниям; и даже воздух в этом ставшем незнакомым месте, где курился ладан и плясали свечи, — в этом месте, почему-то так похожем на храм, — сам воздух здесь вновь полнился и дрожал верой прежних лет. Верой, которую он сам исповедовал на протяжении недолгого, вдохновенного, блистательного времени — быть может, лучшего времени своей жизни, — верой, которую он потерял в возрасте Христа, в тридцать три года, в тысяча девятьсот шестьдесят втором году от Рождества Христова, когда оказался на распутье и должен был выбирать между собственным распятием и… и…
Он поймал себя на том, что склоняется над бездной своего личного ада, который давным-давно затворил для посещения, и поспешил открыть глаза — но тут же понял, что вовсе их не закрывал. Бестелесный голос, пробудивший в нем такие счастливые, такие болезненные отголоски, уже растаял, и мир омывался аплодисментами. Он тоже захлопал, силясь понять, какое сейчас время суток, но что-то было неладно со стрелками его часов: они бегло виляли по кругу, то и дело меняя направление. Однако он знал, что миновали бесконечные часы, потому как душа его была обессилена. В тот момент, когда невидимый певец объявил, что пришло время обещанного перформанса, и обратился к слушателям с нелепой просьбой «у кого есть, повязать галстуки», Суханов нетвердой походкой выбрался из давки взволнованного человечества и оказался в опустевшем коридоре.
Тут тоже многое было не в порядке. Оставленные без надзора свечи распоясались и скакали с прилавка на прилавок; пара картин перевернулись вверх тормашками, опрокинув деревни, леса и озера в небеса, потекшие акварельными ручейками; на соседней стене конский табун вырвался из рамы и, цокая копытами, припустил грациозной рысью по оборотной стороне книжной полки. На каждом шагу он спотыкался о тени, ворохом сваленные на полу, как сухие листья. Хуже того, многие предметы наливались мерцающим, призрачным сиянием, и он стал подозревать, что чуть только он поворачивался к ним спиной, они бросали притворяться и превращались в нечто совсем иное: ботинок — в зонт, зонт — в чертенка, чертенок — в облако, а может быть, и вовсе ускользали в некое неведомое четвертое измерение, навеки растворяясь в лабиринтах бытия. В определенном смысле ему казалось вполне естественным, что все сделалось так странно и зыбко, но голова болела сильнее прежнего, сердце опасно трепыхалось, и его охватила настоятельная потребность погрузиться в прохладный омут тишины и немного поспать — или хотя бы полюбоваться, как по внутренней стороне его век мятежными стрекозами порхают краски.
Неверной поступью уходил он все глубже и глубже, дальше и дальше, с каждым шагом подхватывая крупные влажные розы, которые падали с обоев на его открытые ладони, а после протягивая весь благоухающий, пышный букет коротко стриженной девчушке в желтом платье, случайно попавшейся ему навстречу, чье мальчишеское личико, с полураскрытым от смеха ртом, было ему знакомо так же хорошо, как и все остальные лица, ибо он, конечно, их всех встречал прежде. Девушка посмотрела на него перепуганными глазами и, уронив цветы на пол, бросилась бежать, выкрикивая имя, которое, как он смутно припомнил, он уже где-то слышал: «Ксюша! Ксюша!»
Он проводил ее усталым взглядом, а затем, наступая на хрупкие лепестки роз, свернул в какой-то переулок, толкнул входную дверь, почти невидимую под слоем похабных надписей, поднялся по зловонной лестнице на третий этаж и, еще раз сверившись с адресом, нацарапанным на трамвайном билете, постучался в облезлую дверь. Ему открыл свирепый громила с окладистой бородой. Кивая и бормоча «здрасьте», Анатолий начал пробираться сквозь прокуренную, скудно обставленную, многолюдную комнату и в конце концов опустился на стонущий диван у дальней стены, где его не было заметно; чувствовал он себя довольно неловко, потому что знал здесь всего двух-трех человек, да и то шапочно, а знакомый, пригласивший его сюда, опаздывал. Почти час он просидел молча, прикладываясь к рюмке, и с возрастающим интересом, переходящим в возбуждение, слушал человека постарше остальных, с нервно-подвижным лицом, хозяина этой квартиры, который вполголоса излагал свою теорию гибели искусства.
— С момента своего зарождения на заре человечества, — говорил он мягким голосом, выношенным поколениями интеллигентов, — изобразительное искусство выполняло две самостоятельные функции: ритуальную и декоративную. На примитивных этапах искусство сводилось, с одной стороны, к наскальным изображениям убитых животных, помогающим охотнику заручиться помощью добрых духов, а с другой — к изготовлению ракушечных ожерелий, способных сделать первобытных женщин чуть более привлекательными. В процессе становления человечества, насколько я могу судить, из этих двух первоначальных функций — общения с миром духов и приукрашивания реальности — постепенно сформировались два великих, если угодно, предназначения искусства: поиски божественного и поиски прекрасного. В Средние века человек был придавлен суевериями, а потому божественное возобладало над прекрасным, но когда искусство достигло вершины своего развития — я говорю, конечно же, об эпохе Возрождения, — эти два предназначения начали сближаться и в конце концов слились воедино. И на какой-то быстротечный миг Бог стал Красотой, природа стала Богом, и в результате Божественное и Прекрасное в равной мере осенили и пышнотелых натурщиц Тициана, и изможденных мучеников Мантеньи. Эта удивительная гармония продлилась немногим долее века, но вызвала такое цветение человеческого гения, которое насыщает нас и по сей день. Однако мир не стоял на месте, и жизнь с неизбежностью возобладала над искусством, а потому в семнадцатом-восемнадцатом веках, когда притчей во языцех стали разум и просвещение, на горизонте замаячило начало конца. По мере того как два предназначения искусства вновь стали отдаляться друг от друга, творчество оказалось загнанным во все более сужающиеся рамки: портретная живопись, эпические полотна, жанровые сцены, иконопись, пейзаж, натюрморт… Вслед за тем наступил наш собственный чудовищный век механистичности и атеизма, Прекрасное пало жертвой индустриализации, так называемые прогрессивные мыслители объявили Бога персоной нон грата — и в единый, с точки зрения вечности, миг оба высших предназначения искусства утратили всякий смысл. Что осталось на наш удел? Жалкая связка ярлыков да нечастые попытки вернуть искусству хотя бы частицу прежней славы, предпринимаемые либо отчаянными приверженцами искусства ради искусства, которые тщатся возродить Прекрасное, но всегда кончают пастушками с пудельками и их эстетическими эквивалентами, либо пламенными революционерами, которые ищут божественное под красным знаменем гуманизма, надеясь использовать искусство ко всеобщему благу, как будто это каравай хлеба или пара сапог, — и нужно ли говорить, что из этого ничего не выходит, ибо цель не становится священной только от того, что она благородна.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

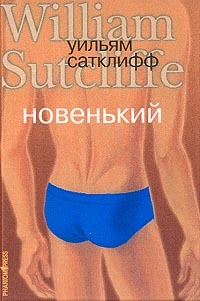



Комментарии