Безумие - Калин Терзийски Страница 42
Безумие - Калин Терзийски читать онлайн бесплатно
И даже эти обычные люди потихоньку стали мне казаться интриганами и негодяями, которые только и делают, что обвиняют друг друга. Следят друг за другом и истязают себя, потому что не способны выносить чужое счастье.
Вот так. Моя мать одновременно сидела с моей Куки, которая жила в разваливающейся семье, и ухаживала за своим отцом, дедушкой Сыйко. Тот же, попав во власть деменции, забыл обо всем абсолютно. Он не помнил, где находится и что кушал на завтрак. Вот только свое необозримое прошлое он забыть не мог. Да, его прошлое, составленное из девяноста восьми лет, и правда было величественным.
Хотя, насколько величественным может быть прошлое человека?
Об этом я рассуждать не собираюсь. Замечу только, что если прошлое дедушки Сыйко не будет принято за величественное, я гроша ломаного не дам за всю свою писанину. Мне кажется, что если мы не способны назвать некоторые вещи величественными, просто не стоит жить. Так я думаю.
А теперь я расскажу вам о своем деде Сыйко. О своем великом деде, отце моей матери — о просвещенном человеке, философе и страстном игроке в нарды из села Садовец.
Я всегда испытывал неприязнь и недоверие к традициям. Потому что следовать традиции очень просто. Для этого большого ума не надо. Для этого не требуются стержень и нервы. И не надо быть особо одаренным. Ни умом, ни сердцем. Ты просто медленно двигаешься по течению неповоротливой, заросшей тиной реки Традиции, и тебе хорошо. В мое время, как, возможно, и во все остальные смутные времена, традиции были в почете.
Я это к чему. Дело в том, что дед Сыйко был настоящим памятником традиции. В шляпе и с палкой, он шаркал по своему патриархальному селу и олицетворял ту самую очаровательную сельско-интеллигентскую традицию. В льняном костюме и соломенной шляпе, с серебристыми, вьющимися волосами, серьезным и красивым лицом, он напоминал величественные останки старого дерева.
После обеда дед лежал часа два — по старой традиции, которую сам и выдумал. Иначе говоря, он не соблюдал чужие традиции, а сам их создавал. Никто в деревне больше не лежал после обеда. А вот дед — да. Лежал в кофте и при галстуке, а брюки снимал. Из-за чего напоминал Вольтера, дремлющего в панталонах.
Дед читал безумное количество книг, которые вытаскивал из своего большого книжного шкафа. Он читал Гегеля и Канта, Спинозу и Макаренко — по большей части вещи, которые совсем не сочетались с его монолитным укладом жизни, устойчивым и незыблемым, как башня на прочном фундаменте. Мне не верится, что он читал и постигал что-то новое. Дед просто чувствовал, как это престижно и необычно — читать европейскую философию, засев в своем кабинете в деревне. И кроме того, он наверняка искал подтверждение собственной абсолютно надежной философии, впитанной им с самого детства. Его мировоззрение было по-деревенски простым, земным и понятным. Складывалось оно из следующих компонентов: дома, двора, хлеба, ножа, ребенка, целующего руку, и отца, плачущего от умиления; далее ребенок вырастал, отец умирал, ребенок сам становился отцом, получал власть над домом, хлебом, ножом и так далее, до бесконечности.
Дед Сыйко был сельским учителем, абсолютно традиционным сельским учителем. Величественным. Я им восхищался, но одновременно с этим он меня раздражал.
Как я уже сказал, за три года деменция обострила самые яркие черты его характера и сделала их гротескными. Величавость деда становилась нелепой и невыносимой.
Когда я предложил матери оставить его в психиатрической клинике, она изменилась в лице. И я знаю, почему. Потому что и ей это часто приходило в голову. Я был уверен, что каждую ночь мать обдумывала возможность оставить своего отца где-нибудь, где о нем могли бы позаботиться.
Я был уверен, что она истязала себя этими бесконечными внутренними колебаниями сотню ночей подряд. Представляла себе, как освобождается от ухода за отцом. И беззвучно выла — от стыда и негодования на себя. Ночь за ночью. Мысль о том, что она избавляется от родителей, была для нее невыносима, как зубная боль. Я в этом не сомневался.
Поколение за поколением патриархальные нравы насаждали у детей чувство изначальной вины перед брошенными ими родителями. Вот почему я — гордый негодяй и поборник традиций — решил, что самое время сыграть роль Бессовестного и спасти свою мать. От необходимости решать судьбу своего отца.
Я был тем человеком, которому плевать на вину, а уж чувствовать себя виноватым — было для меня, как хобби. В последние годы, работая среди сумасшедших, запутавшийся и одинокий, без моральных ориентиров, без ясности в вопросах добра и зла, нормального и ненормального, в те годы, когда меня постоянно укоряли за то и за се, я привык считать себя виноватым.
Я был плохим, циничным, бесчувственным, инфантильным, безответственным, если в двух словах — обыкновенной сволочью. Вот что я о себе думал. И это меня не смущало.
Я много пил, и у меня не было никаких проблем с совестью. Она была запятнана, но я ее в этом не винил. Я был толерантен к своей совести. Как бы это сказать? Моя совесть была грязной, развратной цыганкой, но я был толерантным. И терпел.
Так вот, я был склонен стать плохим и принять решение о судьбе деда Сыйко.
Нужен был человек, который не боится прослыть сволочью за то, что деда Сыйко разместят в больничном доме престарелых. Некий человек — антипод Александру Македонскому. Который вообще не будет разрубать никаких гордиевых узлов, а просто бесцеремонно сдаст деда в психиатрическую клинику.
По блату. Да-а. Чтобы поступить в Больницу с деменцией, нужны были связи. Ха-ха.
И вот — я и был той самой связью.
Мать думала пять дней. Хотя, мне кажется, она все решила задолго до этого.
Мы отвезли деда Сыйко в Больницу в начале лета нового тысячелетия. Он слишком долго и насыщенно жил в старом. Конечно, не всю тысячу лет. Первые девятьсот дед пропустил. Но по нему это не было заметно.
А я вообще не знал, в каком времени живу. Мне было все равно. Я ненавидел время и традиции. Но судьба деда Сыйко меня заботила. Ведь в это проклятое тысячелетие мы пережили с ним вместе и много хорошего.
Мне вспомнилось, как вместе с ним мы сидели на холме у села и ели хлеб с брынзой. Потом виноград. Он резал ножичком брынзу, отламывал хлеб, и мы отрывали от кисти виноградины. Одновременно он напевно рассказывал мне сказки о крепости над селом. Она называлась Кале. Сказать по правде, это было волнительно и сказочно. Так что к судьбе деда я не был равнодушен.
Но сейчас дед был беспокойным и растерянным, а деменция делала его особенно раздражительным. И уже в самом начале его пребывания в Больнице возникли проблемы. Я разместил его, не без помощи коллег и медсестер, в самой лучшей палате отделения доктора Сами. Днем все было более-менее ничего, но вот по ночам — совсем плохо. При деменции больной чаще всего неспокоен именно в ночное время. Дед Сыйко начинал бродить, как привидение, по коридорам, ругаться со старушками и угрожающе ворчать на стариков. Он становился деспотом Добротицей [28] в полной призраков крепости. Разгневанный владыка старческого приюта.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

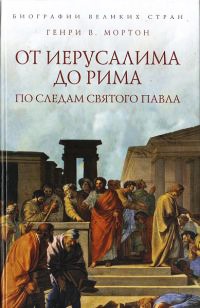


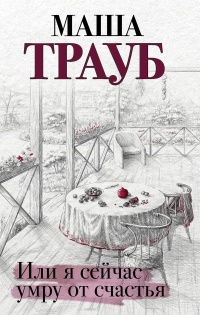
Комментарии