Пора уводить коней - Пер Петтерсон Страница 42
Пора уводить коней - Пер Петтерсон читать онлайн бесплатно
Как обычно, я приехал слишком рано. Подперев собой колонну, я стал ждать в непонятном полусвете, заливавшем большой зал в любое время суток и ни одному из них не соответствовавшем: ни утру, ни вечеру, ни дню, ни ночи. Гукалось эхо шагов и голосов, но сильнее всего была слышна огромная тишина под куполом высоко в вышине, где длинными рядами сидели голуби, белые, серые и коричневые в крапку и смотрели на меня. У них среди железных перекрытий были гнезда, они жили там.
Но он не приехал.
Не сосчитать, сколько раз я проделал этот путь за оставшееся лето сорок восьмого года, встречая поезда из Эльверума. И каждый раз я заново предвкушал, трепетал, даже радовался, садясь на велосипед и начиная спуск по Нильсенбаккен, чтобы проделать весь этот путь и ждать на вокзале.
Но он не приехал.
Прошел дождь, которого все так ждали, я продолжал через день ездить в центр, чтобы проверить, не приехал ли отец поездом из Эльверума именно сегодня. На мне были зюйдвестка и прорезиненная куртка, ни дать ни взять рыбак с Лофотенских островов, и сапоги на ногах, и брызги из-под колес, и вода потоком вниз по горе ниже Эгебергосена и дальше по путям с правой стороны дороги (потом они уходили в туннель и возникали снова чуть дальше уже по левую руку), все дома и здания стали гораздо серее прежнего и растворились под дождем, у них не было ни ушей, ни глаз, ни голоса, они не рассказывали мне больше ничего. А потом я перестал. В какой-то день я не поехал в город, и на следующий не поехал, и через день. Словно бы набросили одеяло, похоронив под ним всё, что я знал и понимал. Жизнь началась с чистого листа. Другими стали цвета, другими запахи, даже мое восприятие вещей изменилось. И не только ощущение теплого и холодного, темного и светлого, фиолетового и серого, но даже то, как я пугался и как радовался.
Осенью пришло письмо. Со штемпелем Эльверума, фамилией мамы на конверте и адресом по Нильсенбаккен, но на вложенном в конверт листе бумаги было обращение к нам всем троим, по имени и фамилии, это выглядело странно, потому что у нас одна фамилия. Письмо было коротким. Он говорил «спасибо» за все прожитое вместе, он оглядывается на прошлое с благодарностью, но теперь другие времена, и тут ничего не поделаешь: он домой не вернется. В банке Карлстада, в Швеции, у него должны быть деньги за лес, который мы рубили летом, поэтому к письму он приложил доверенность, чтобы мать могла съездить в Карлстад и получить по паспорту деньги. Никакого отдельного привета мне. Не знаю. Мне кажется, я заслужил его.
«Лес?», — это единственное, что мама сказала. В ней уже появилась та тяжеловесность, которая сохранялась в ней потом до конца жизни, не только одутловатость в руках, бедрах и походке, но и какая-то грузность в голосе и во всей мимике, даже веки у нее отяжелели, словно бы ее тянуло в сон и она не совсем включалась в происходящее, а все потому, что я ни слова не рассказал ей о том, что было со мной и отцом летом. Ни одного слова. Сказал только, что он вернется как сможет, как только уладит все, что нужно.
Мама заняла денег у дяди, не у того, которого убили в сорок третьем гестаповцы при попытке бегства из полицейского участка, а у дяди Амунда. Они были близнецы с застреленным, которого звали Арне, и все делали вдвоем: ходили в школу, бегали на лыжах, охотились. Теперь дядя Амунд охотился один. Он жил в квартире, которую они делили с дядей Арне, на Волеренге, и был неженат. В тот момент ему должно было быть лет тридцать с небольшим, но в квартире стоял запах старого человека, по крайней мере, мне так казалось, когда мы навещали его на Смоленгсгате.
На занятые деньги мама купила билеты до Карлстада на стокгольмский поезд. Я изучил маршрут: отправление рано утром с Восточного вокзала Осло, поезд следует вдоль реки Гломмы до Конгсвингера, там делает резкий поворот южнее, к шведской границе и Шарлоттенбергу и еще ниже к Арвике у Глафс-фьорда и дальше к Карлстаду, столице Вермланда, стоящего на берегу озера Венарен, такого большого, что Карлстад стал портовым городом. Возвращение вечером того же дня. Мама настаивала на том, чтобы я поехал с ней. А сестра осталась дома. Как обычно, сказала сестра, и это была правда, но вопрос не ко мне.
На этот раз до Восточного вокзала я добирался не на велосипеде по Моссевейен, а электричкой от станции Льян, она шла вдоль фьорда, лето кончилось, над морем нависло низкое серое небо, оно почти касалось волн, бешеный ветер снимал с воды стружку, разбрызгивая ее белыми кружевами между островов. Я стоял на перроне, ветер гнал по-над рельсами дамскую шляпу, корабельные сосны, которых было так много в окрестностях нашего дома, раскачивались и даже гнулись под самыми сильными порывами. Но я уже усвоил, что они не упадут. А вот в детстве я часто думал, сидя у окна и нервничая, глядя, как ветер неистовствует среди изящных рыжих стволов, торчащих по всем склонам вдоль фьорда, что сейчас сосны непременно рухнут, выпростав корни из земли, но они сильно скрипели, кренились, но не падали.
Про Восточный вокзал я знал все наизусть: когда и к какому перрону приходят поезда, а когда и куда отходят, так что я провел маму к нужному поезду, к нужному вагону, налево и направо раскланиваясь со всеми, с кем общался тут раньше: грузчиками, носильщиками, кондукторами, продавщицей из киоска, двумя мужиками, приходившими сюда распить свое отвратное не пойми что, по очереди прикладываясь к бутылке, их каждый день выставляли вон, и они исправно возвращались обратно.
В купе я сел спиной против хода, потому что маму мою от езды так укачивало, как и вообще многих, а мне это было нипочем. Поезд покатил вдоль Гломмы, замелькали столбы станций Блакер и Орнес, дунг-пинг, дунг-пинг — стучали колеса по рельсам, чух-чух, чух-чух, и я заснул, смежив веки от дрожащего света, не яркого солнечного, но белесо-серого света неба над водой, и мне снилось, что я еду на сэтер, что это я трясусь в автобусе.
Проснувшись, я стал щуриться на Гломму, это ощущение еще жило во мне, я дружил с водой, с текущей водой, я слышал шум большой реки, катящей нам навстречу, потому что мы ехали на север, а она текла на юг к городам у моря и плескалась тяжело и широко, как делают все большие реки.
Я перевел взгляд с реки на мать, сидевшую прямо напротив, на ее лицо, на которое то ложился, то исчезал свет в такт мельканию мачт и столбов, мостов и деревьев. Глаза были закрыты, набрякшие веки легли на круглые щеки, и казалось, как будто единственно правильным для этого лица было спать, и я подумал: вот черт, сам смылся, а меня бросил с ней.
Да нет же, я любил свою мать, тут другого слова не скажешь, но будущее, которое я читал на лице перед собой, было не таким, каким я его себе рисовал. Стоило просто посмотреть на это лицо три минуты не отрываясь, как мир сдавливал плечи с обеих сторон. Дыхание вдруг стало по-собачьи коротким. На месте больше не сиделось. Я встал, вышел из купе в коридор и стал у окна смотреть в другую сторону, где мимо поезда летели поля, уже сжатые, пустые, высветленные коричнево-желтым матовым светом осеннего солнца. В коридоре был еще один мужчина. У него было что-то не так со спиной. Он тоже смотрел в окно, курил сигарету и был где-то очень далеко мыслями. Когда я встал у окна, он повернулся как в полудреме, улыбнулся и кивнул дружелюбно. Я прошел до конца коридора мимо всех купе, дошел до титана с водой, развернулся и пошел назад, уставившись в пол, прошел мимо мужчины с сигаретой и дальше в другую сторону до конца, где нашлось пустое купе. Я вошел в него, сел у окна по ходу поезда и стал смотреть на реку, накатывавшую на меня и исчезавшую за спиной, и, похоже, я плакал, уткнувшись лицом в стекло. Я закрыл глаза, и уснул мертвым сном, и спал, пока кондуктор не распахнул с грохотом дверь и не сказал: «Карлстад!»
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
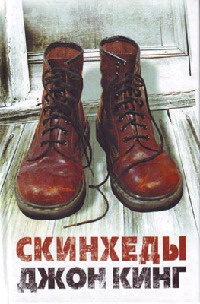
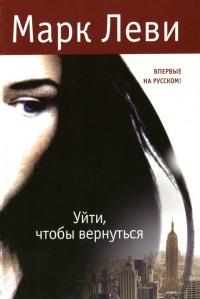
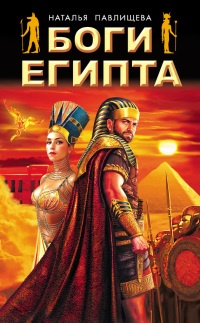
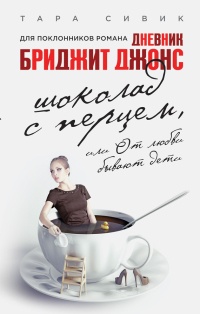

Комментарии