Берлинская латунь - Валерий Бочков Страница 4
Берлинская латунь - Валерий Бочков читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Я застонал, как от зубной боли. Тут же представил себе чумазых славян, облепивших броню «тридцатьчетверки», несущейся по Унтер-ден-Линден в сторону Бранденбургских ворот, солдаты все в медалях, весело палят из автоматов по окнам. Палят короткими очередями. Между очередями пьют чай. На башне танка дымит самовар.
– Чушь. – Я залез в холодильник, достал пиво. – Это чушь. Его приволок какой-нибудь поволжский Шульц или Мюллер, тракторист или комбайнер. В начале девяностых, после Стены они из Казахстана сюда косяком поперли.
– Кто попер? Куда? Почему Шульц?
Я отмахнулся, глотая ледяное пиво прямо из горлышка.
– Тут что-то написано. – Мария наклонилась. – Вроде клейма. Только из-за плесени ничего не разобрать.
– Не плесень, патина. – Я лениво поднялся, прошел в ванную, вернулся с полотенцем и тюбиком зубной пасты. – Где? – спросил небрежно.
Выдавив пасту, я размазал ее полотенцем по части круга, там, где проступали какие-то знаки. Мария завороженно следила за процессом. Я отпил пива, немного брызнул на засохшую пасту.
– Пиво?! – прошептала Мария.
– Спокойно. – Я был невозмутим.
Случилась некая химическая реакция, пиво дало обильную пену, я тут же с силой начал тереть. Убрал полотенце; очищенная часть крышки сияла.
– Как золото! – восхищенно прошептала Мария. – Надо же…
Я сам не ожидал, но, не подав виду, неспешно допил пиво и сунул бутылку в мусорную корзину. Мария подтащила самовар к окну.
– Медали… – Наклонившись, она водила пальцем по металлу. – Ну что ты там бродишь? Тут же на твоем языке написано, что, прочитать трудно?
Самовар, как и полагается приличному самовару, был родом из Тулы. Изготовлен на фабрике братьев Баташевых в 1867 году, рядом с фабричным клеймом теснились медали – пять штук в ряд. Разобрать без лупы, кто и за какие заслуги наградил наш самовар, оказалось невозможно.
– Эй, гляди! А это что? – Согбенная Мария разглядывала спину самовара. – Ноты! Точно, ноты…
Я поднял его, тяжелого черта, плюхнул в кресло. На задней стенке разобрал гравировку: нотный стан, ключ, несколько нот, разбитых на два такта. Мария, отодвинув меня, быстро выдавила пасту и принялась усердно тереть самоварный бок.
– Пивом надо полить, – бросила она, не оборачиваясь.
Я принес из ванной стакан воды.
Кроме нот, там была выгравирована надпись: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine liebe Anne-Lotte Dein Kurt-Kaninchen [3].
– Ну? – нетерпеливо спросила Мария. – Канинхен – это фамилия?
– Вряд ли… – Я провел пальцем по нотам. – Это «кролик». Вроде «целую крепко, твоя зайка»… Погоди…
Я облизнул губы и просвистел мелодию – два такта в соль-мажоре, всего девять нот.
– Что это? – Мария ласково поправила мне воротник рубашки. – Ты знаешь эту музыку?
– По двум тактам… – Я просвистел снова. – Хотя вроде… Звучит как шлягер. Или народное что-то. Но точно не Гендель.
– Кстати! Про Генделя! – вспомнила Мария. – В семь – концерт во Французской церкви.
Справа от алтаря, у амвона, стояла елка. Высокая, метра три, с пышной хвоей, я сразу уловил смолистый лесной дух. Немецкий аскетизм даже в украшении, никаких рубиновых шаров, золотых лент и прочей цыганской чепухи – строгие огоньки простых лампочек, без подмигиваний, на макушке – белая слюдяная звезда.
Вообще, душа немца должна петь уже на подходе, Жандарменмаркт – апофеоз архитектурной симметрии: Французская церковь была точной копией Немецкой церкви, одна замыкала южную оконечность площади, другая – северный фланг. Между ними громоздился Берлинский концертный зал – архитектурный двойник московского Большого, тоже с колесницей и Аполлоном на крыше. Неумолимую симметрию довершал памятник Шиллеру в центре площади, тоже симметричный и тоже на симметричном постаменте. Памятник был заложен в день столетия поэта и открыт точно через десять лет. Если площадь сложить пополам, то совпадение архитектурных элементов оказалось бы стопроцентным. Название площади – Жандарменмаркт – чуть царапает русское ухо: тут же представляется царский держиморда, красношеий, со злыми усищами и саблей на боку. На самом деле площадь обрела свое имя благодаря элитному полку прусских кирасиров-жандармов, чьи конюшни были разбиты здесь по приказу Фридриха Вильгельма почти триста лет назад.
Зал наполнялся, я разглядывал немецкие лица, Мария вынула аппарат, щелкнула двух тихих детей, дисциплинированно изучавших елку. Показала фото мне.
Для церкви здесь было слишком светло, впрочем, сейчас храм работал концертным залом. Вполне светским – в программу, помимо неизбежных в органном деле Генделя и Баха, попали французские импрессионисты и даже почти наш Чюрленис со своим прелюдом. Я сложил программку и вернул Марии, она придвинулась ко мне, коснулась губами моего виска. Я заметил мельком наши отражения в витраже, в темно-синем стекле – ее профиль, мое туманное лицо. За спиной на хорах что-то зашуршало, зал притих, кто-то смущенно кашлянул.
Зазвучал d-moll первого контрапункта «Искусства фуги». Я играл его на фортепьяно, хотя бог его знает, для какого инструмента писал Бах – в партитуре нет на это никаких указаний, но органная версия тоже вполне уместна. Мария чуть отодвинулась от меня – из уважения к Баху, скорее всего. Рука, покинув мою ладонь, прилежно легла на лакированный поручень кресла. Я прикрыл глаза, и тут же мои пальцы заскользили по клавишам, с безупречностью зеркала повторяя каждую ноту, каждый звук, замирая в паузах, словно на полувздохе, и снова бросаясь очертя голову в гудящий лабиринт звуков. Контрапункт третий, четвертая фуга: тему начинаем с ре-минора, модулируем в ля-минор, затем переходим в ля-мажор и успешно возвращаемся в ре-минор. Вот еще одна тема в ре-миноре: я встретил Марию в ноябре, в самом конце ноября. Три года назад. Три года и один месяц – будь я немцем, уточнил бы. Ноябрь на Манхэттене запросто загоняет в депрессию даже матерого оптимиста: октябрьские воспоминания о перламутровом мареве над Ист-Ривер, тыквенно-рыжем ковре шуршащего Центрального парка, неумолимо светлеющего и будто тянущегося ввысь, – все это к концу ноября выдыхается и переходит в разряд грез. В ноябре число самоубийств в Нью-Йорке возрастает на семь процентов и является самым высоким. Апрель – неизменный оптимист, что, впрочем, вполне объяснимо. Меня привезли в реанимацию госпиталя имени Рузвельта, потом сестра сказала, что меня спасли в той самой комнате, где умер Леннон. Четыре пули «дум-дум» разорвали все внутренности, у Джона не было ни одного шанса, даже если бы его застрелили в операционной. По больничной легенде, в момент смерти по местной трансляции случайно крутили «Битлз».
Я не помню, что передавали, когда привезли меня, скорее всего, какую-нибудь гадость из репертуара массажных кабинетов или комнаты ожидания зубных врачей. Я не Леннон, для меня не нашлось пуль «дум-дум», чертовы нижние соседи оказались дома и сразу увидели темное пятно, расползавшееся по потолку. Это была красноватая вода, которая переливалась через край моей ванны.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
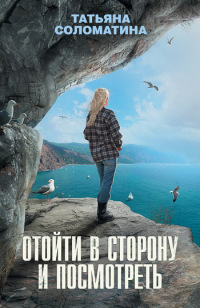


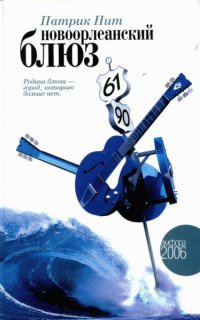
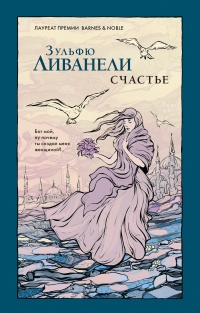
Комментарии