Разруха - Владимир Зарев Страница 4
Разруха - Владимир Зарев читать онлайн бесплатно
— Как ты можешь, в день, когда… Для тебя не осталось ничего святого, гнусный подонок! Мы ведь сегодня похоронили твою мать!
— Мамы больше нет, и она тут ни при чем. Такой уж я гад.
— Как можно с этим мириться, если ты даже на кладбище заявился пьяным?
— Я не хочу примирения, к смирению стремлюсь… — сжав ладонями ее груди, я почувствовал ее всепоглощающую женственность, ее теплое материнство, которые были мне так нужны.
— Я несколько часов вдалбливала в головы этим зажравшимся идиотам пять слов, которые они не в состоянии запомнить, а ты в это время валялся на диване. Как так можно… разве так можно? — ее голос перешел в верхний регистр, заглушив пиликанье соседского ребенка.
— Этот дискурс мне знаком до боли… — для меня не существовало слова бессмысленней, чем «дискурс», все время звучавшее как пароль на их феминистских сборищах. Я не хотел ее задевать, мне действительно было стыдно, но ведь с чувством стыда свыкаешься, как свыкаешься летом с мухами.
— Иронизируешь? Знаешь, что ты такое? Триста грамм ракии и четыре бутылки пива в день!
Тридцать лет назад Вероника сравнивала меня с Мартином Иденом, впитывала каждое мое слово, ловя его своим вечно изумленным взглядом, склонялась над каждой страницей, выползающей из моей старой пишущей машинки, и улыбалась, читая.
— Когда же, наконец, ты что-нибудь сделаешь? Не для меня, не для детей — для себя самого? Не могу смотреть, как ты прозябаешь и стареешь от полной бессмыслицы, — ее голос вдруг сорвался, и это меня задело, — ты умираешь, Мартин!
— И я, и небо над Витошей, — я услужливо протянул ей тарелку для нарезанного лука, и наконец решился: — У тебя есть любовник?
Она резко отвернулась, как от удара, собственное смущение вызвало у нее оторопь. Вероника всхлипнула.
— Твое пьянство довело тебя до идиотизма! И это мне говоришь ты? Ты, который переспал со всеми моими подругами?
Какой смысл добиваться ответа на вопрос, если я ничего не могу изменить, и если ее ответ принесет мне боль. А действительно — так ли важно мне было узнать, есть ли у Вероники любовник или любовница? Со скуки я это делал, или из нетерпения разрушить себя вконец, потерять последнюю точку опоры, испытать ту ненасытную свободу, откуда нет хода назад? А может, я все еще любил свою жену, и чем больше она от меня отдалялась, тем больше росла моя привязанность? Или это была уязвлена моя мужская гордость, задето низкое чувство собственничества, ускользающей живой собственности, приносящей мне пользу, ведь Вероника терпела и кормила меня? Гордость, достоинство… для меня это были пустые слова, я помнил и понимал их, но они обесценились, как Мерседес, выброшенный на автомобильное кладбище. А может, причина была в другом — меня снедало любопытство, та самая лицемерная часть человеческой сущности, которая превращает писателя в обычного сплетника, в человека, испытывающего радость от чужого поражения, чужого стыда, даже если это — его собственный стыд. «Просто я хочу знать, — сказал я себе без особого энтузиазма, — момент назрел, и этот миг так краток: жара, загадочность этих сумерек, едкий запах лука, моя пульсирующая мужественность, наше стояние на балконе, из которого, похоже, есть лишь один выход… шестнадцать этажей вниз».
Я вцепился в охватившую меня безнадежность и взъярился, нащупав способ проверить свои сомнения. Через неделю, согласно договору, Вероника должна сдать в издательство любовный романчик, который она переводила с английского. Слащавый текст ее раздражал, она презирала себя за то, что из-за вечной нехватки денег вынуждена это переводить, да и сроки поджимали. «Если она сейчас уступит мне компьютер, — подумал я, — значит, она чувствует себя виноватой, значит, это правда».
— Сегодня же вечером приступлю к работе, — тарелка чуть не выскользнула у меня из рук, и я поставил ее обратно на колченогий столик, — я наконец нашел название для своего нового романа, мне нужно начать его прямо сейчас.
— А как же мой перевод? — ее смущение перешло в панику, всхлипы стихли, и она прислонилась к перилам балкона. Мозг ее лихорадочно работал, синева в глазах потемнела и растворилась в опускающихся сумерках, черты лица обострились, а само лицо побледнело, уподобившись маске мима. Но выражало оно не боль, не смех — одно лишь подернутое меловой пленкой отвращение.
— Катарина сегодня вернется поздно, и если ты… — ее пальцы неловко скользнули под резинку моих трусов, она была готова расплатиться удовольствием за свою тайну, — в сущности, если тебе так хочется…
У меня потемнело в глазах, сдерживаясь, я осторожно отстранился.
— Разруха… я назову роман «Разруха».
— «Разруха»? Звучит слишком вычурно, прямо мелодраматично, — она ссыпала лук в тарелку, и я почувствовал, что никогда она меня не любила так самоотверженно и искренне, как сейчас ненавидела. — Будь по твоему…
Телевизионные антенны на крышах соседних многоэтажек походили на кресты. Если смотреть с высоты моего шестнадцатого этажа, то от заасфальтированных крыш соседних домов пониже веяло такой же запущенностью и тоской, как от Малашевского кладбища. Я закурил. А что еще мне оставалось?
* * *
Наш беушный компьютер достался нам из вторых рук — с истощенной памятью и стертыми буквами на клавиатуре. Он тоже выносил меня с трудом. Мы приобрели его у одной из феминисток, подруг Вероники, которая, в свою очередь, тоже купила его с рук. Своими электронными мозгами он понимал мое духовное превосходство и постоянно устраивал мне подлянки, просто издевался. Зачастую у меня исчезали целые материалы, которые я кропал для столичных газет, чтобы заработать по мелочи, две трети которых мне возвращали. «Вы пишете слишком заумно, — говорили мне расфуфыренные редакторши, — а газете нужно совсем другое… сенсация, что-нибудь эдакое, скандальное. Ищите новость и, бога ради, смените лексику».
Слова уже никому не нужны, наравне с левом, слово обесценилось в сотни раз, потому что сегодня, в нашей раздрызганной жизни никому не нужна легкая грусть — ее и так в избытке, красоты остается все меньше, хоть магазины задыхаются от дорогущих предметов роскоши. Газеты забиты политическими откровениями и пикантными сплетнями на злобу дня, телевидение с его бесконечными боевиками и фильмами ужасов однообразно, как высоконравственные советские фильмы недавнего прошлого. Девяносто пять процентов населения и, что самое страшное, дети говорят на какой-то фене, они не общаются, а обмениваются информацией. Само общение стало мучительным. Чтобы принять гостей, нужно потратить половину зарплаты, мама перестала ходить в гости, потому что трамвайные билеты дороги, перестала звонить подругам, потому что телефон — тоже дорогое удовольствие. В продаже уже есть всё, в любое время можешь купить, что душе угодно: от проститутки до Роллс-ройса, но у людей нет денег, и они штопают старые носки. А вот демократии — в избытке. Можешь от души обложить президента и министров, да хоть вернувшегося из изгнания царя, не говоря уж о политиках, банкирах, «братках», судьях, ослепших, как Фемида, и всяких там мейкерах, обобравших народ до исподнего. И что с того, что теперь это называется накоплением первоначального капитала? Разве кто-нибудь попал за это в тюрьму или вернул хоть один лев в разграбленную казну? Кто-нибудь раскаялся и подал в отставку? А Вероника хочет, чтобы мне было стыдно.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
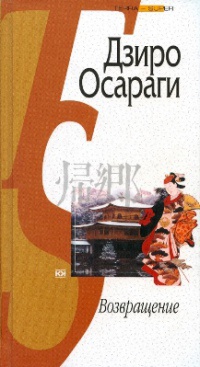

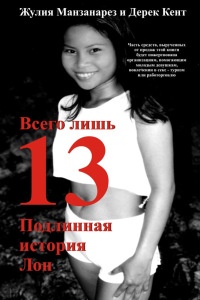


Комментарии