Долгая нота. (От Острова и к Острову) - Даниэль Орлов Страница 4
Долгая нота. (От Острова и к Острову) - Даниэль Орлов читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
— Солнечного, — поправляю я.
— Июня, — уточняет Лёха
— Тогда уж коньяка, — смеюсь.
— Я ждал этого слова! — кричит Лёха и разливает по стаканчикам. — Хочу тебе сказать, что тут всё изменилось. Вообще всё. Туристов полно. Ощущение, что курорт. Анапа, мать её! Велопрокаты, гостиницы, приём платежей сотовых операторов. Думаю, что нам теперь точно куда-то дальше.
— Я же только приехал.
— Вот и хорошо. Пару дней тебе хватит. К Ваське зайдём, тётку Татьяну проведаем и свалим.
— Не был у них ещё?
— Тебя ждал. А если честно, не решался. Столько времени прошло! Боюсь, что не признают. Вон, у тебя борода, у меня лысина. И расстались тогда нехорошо, не попрощавшись. Ещё история эта с Кирой…
Расстались мы действительно странно. Поплыли в Кемь на карбасе за продуктами и не вернулись. Семнадцать лет назад. Но кто ж знал, что так у нас получится. Молодые были, дураки. Потом всё порывались написать, на Новый год открытку отправить. Так ведь не послали.
Идём мимо монастырских ворот. Девочки-художницы этюды красят. Двое работяг из траншеи камни наверх кидают. Тётки в платках, послушники в рясах. С пригорка группа туристов спускается. Перенаселение какое-то. Мимо дока с казанками и «резинками», мимо бывшей монастырской электростанции, на тот берег бухты. Двухэтажный деревянный дом, покрашенный суриком, напоминает опустившуюся помещичью усадьбу. Лохматый пёс на крыльце. Не то лайка, не то просто барбос.
— По двести в день всё удовольствие. Договорился ещё на пароходе. Тут сейчас никто не живёт. Старые хозяева квартиру продали, в Архангельск подались, а новые всё никак ремонт не доделают. Купили за пять копеек, а теперь не знают зачем. А я, представляешь, как раз с хозяином плыл. Он сюда плиту газовую вёз. Ещё выгружать ему помогал, потом пёр всё это расстояние, — Лёха оборачивается и проводит ладонью по горизонту. — Оказалось, правда, что не зря. За неделю вперёд уплатил — и живи, дорогой Алексей, наслаждайся! Сейчас увидишь, там хоромы просто. Не то что наш барак в Савватьево.
Переступаем через псину и входим в пахнущий сыростью и котлетами полумрак. Дом этот я знаю. Тут музейные жили. А раньше, в двадцатых, лагерное начальство обитало — офицеры с семьями. Теперь просто люди. Лестница в обе стороны. Ступени деревянные, перила крашеные. Кошачий корм в пластиковой тарелке. Лёха открывает ключом обитую дерматином тяжёлую дверь.
— Вэлкам ту зе хоум, камарад!
Кидаю рюкзак. Заглядываю в комнату. Два дивана, холодильник. На стенке календарь за две тысячи третий с модным певцом-педрилой. В кухне плита новая, стол. На столе тарелки с аккуратно нарезанными сыром и ветчиной, плошка с маринованными огурцами, печенье. Салфетки в стаканчике. Солонка. Перечница. Лёха проявил чудеса гостеприимства. Иногда на него находит. А вообще, он лентяй. Дома у него что-то среднее между магазином электроники и пунктом приёма вторсырья. Раз в месяц приглашает уборщицу из своей фирмы, чтобы та за тысячу рублей разгребла его кавардак. После каждой такой уборки дня три Лёха вешает рубашки в шкаф, а грязные носки помещает в специальную корзину. Моет за собой чашки и вытряхивает пепельницы в мусоропровод. На четвёртый день, как правило, завод кончается. Выбегает из дома, не застелив постель и не убрав колбасу в холодильник, вечером приходит с кем-то из друзей смотреть футбол на своей «плазме», сжигает пельмени в кастрюле, проливает пиво и, уже успокоившись, перед сном швыряет грязную рубашку на шкаф.
— Дорогой друг! — Лёха поднимает чашку с коньяком. — Позволь мне выпить этот бокал просто так!
— Поехали!
Если выпить, то с ним нет молчания. Иногда мне кажется, что он боится тишины, как боятся её все, кто торопится жить. Ему необходимо ежесекундно сообщать действительности о своём существовании. Он словно отталкивается от каждого слова, как отталкиваются от воды, плывя саженками. Он отмахивается от тишины. Он готов менять вектор своего словесного движения и следовать за своими словами, иногда оглядываясь: — не отстали собеседники? Я отстаю. Вначале даже забегаю вперёд, заглядываю с глаза, смеюсь. Но вот уже фонетическая одышка, икота местоимений. Я не стайер разговора. Для меня эти дистанции невозможны. Плетусь где-то далеко сзади, иногда поднимая вверх руки, заметив, что он обернулся. Беги, Лёха, беги. Я срежу где-то тайной тропой, встречу тебя выдохшегося, раскрасневшегося, с последней полсотней граммов в чашке с отбитыми краями. Я подниму её за твою победу, за твою постоянную победу. Если смотреть на собор, то кажется, что шутник-декоратор специально придумывал коллаж. Сараи, заборы, жёлтый угол дома. Между рамами — братское кладбище насекомых. Потёки краски, фантики от конфет, пивная пробка. Оконное стекло не мыли несколько лет. Трещина. Кто смотрел в это окно? Хорошие люди? Скверные? Зачем они сюда? Как отсюда? Какими именами их называли жёны? Какими прозвищами их кляли в спины?..
— По последней! Чтобы были мы здоровы и неприлично богаты!
— Поехали!
Лёха выдыхает, дёргает небритым кадыком, фырчит, тянется за сигаретой, но лишь щёлкает пальцами над пачкой. Как выпьет, так забывает, что бросил. Иногда даже поджечь успевает. Сидит, смотрит на меня, как на результат своего труда — оценивающе, с гордостью, с удовлетворением.
— Ну, всё прекрасно, брат! Ты тут сам, а я пойду вздремну. Ключи на гвоздике в прихожей.
Интимность человеческого жилья. Хруст замка — хруст стариковских колен. Всю жизнь дом на корточках перед бухтой: сквозняки в коридорах, туман в вентиляции. Скрипит чем-то, гулкает, шепелявит. Не то испугать пытается, не то пожаловаться. Вздорный старик, мстительный, жалкий.
Помню другой дом. Амдерма. Улица Центральная. Раскисшая дорога к Пай-Хою. Крыльцо на балясинах, медная ручка двери, до которой так щекотно дотрагиваться, лишь сними варежку. «Би-би-си» из приёмника на качающейся волне. Пахнет борщом и касторовым маслом от отцовской куртки. Куртка на вешалке — коричневая, лоснящаяся, уютная. И ветер с Карского моря из-под штапика с дребезгом и руганью. Отец в клетчатой ковбойке, в брюках со штрипками, раскрасневшийся в жарко натопленной кухне. В зубах «родопи», очки высоко на лбу, что-то печатает на портативном «Консуле». Такая же кухня, комната. Прихожая, где я стою в углу, после того как сбежал смотреть медведя. Тоже Север, но море иное, люди другие, другая история. И дом будто старичок-проказник: спрячет под лестницей, подставит перила под выжигательное стекло, самолёт в окошке покажет. Лбом к его стенке прижмёшься, глаза закроешь: «От пятнадцати до трёх всех я знаю наперёд. Мне тут долго не стоять. Мне уже пора искать. Десять. Девять. Восемь. Семь. Оставайтесь насовсем. Пять. Четыре. Три и два. Открывать глаза пора!» Вон Лизкина куртка торчит из-за сарая: «Туки-туки. Палочка за Лизу!» Вон Серёжка Бубенцов опять в трубе. Пока вылезет, я успею добежать: «Туки-туки. Палочка за Серёжу!» Ладошкой по досточке, по тёплой, по шершавой. И дом форточкой зайчики пускает, смеётся. Он глаза не закрывал, он видел, как Димка за дверью спрятался.
С этим не поиграешь. Разве что в карты на деньги, но с ним, что с уркой, — смухлюет, сдвинет, шестёрку сбросит. Того гляди разденет, по миру пустит. А может быть, и не так всё. Просто я пришлый, чужой, хрен с бугра, понтяра питерский. Да и нетрезв до полудня. Под нос мне тряпку кислую, дверь на пружине — пендель, гвоздём за локоток: «Подождите, гражданин! Вы к нам откуда? По какому делу?» Рванул локоть. Вырвал клок. Отвянь! Сам кто такой? Вышел на крыльцо — он в спину дышит. Но нет у него власти. Стой, кряхти, смерди подвалом. Я свои права знаю: за неделю вперёд уплачено, не тебе меня колоть. Тоже мне, ветеран органов… И вот он уже сдал. Отступился. Пахнул котлетами, кошкой из окна сплюнул. Кошка серая, полосатая, деловая. На меня взглянула и в траву по своим делам: «Ну-ну, как знаешь. Ишь, какой обидчивый, гордый. Уж и поговорить нельзя».
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
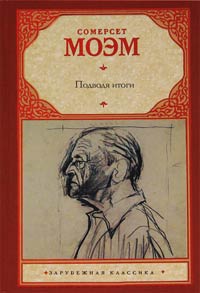

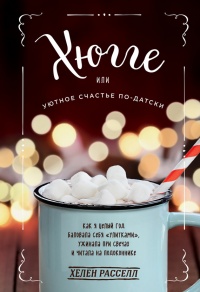


Комментарии