Город в долине - Алексей Макушинский Страница 4
Город в долине - Алексей Макушинский читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Печаль, как известно, имеет свойство превращаться в тоску, тоска в отчаяние. Осенью 1980 года тоска отхватила меня самого такая, что, выговорив себе в институте, где учился, так называемый «академический отпуск», я прожил зиму, повернувшись лицом к стене, буквально и фигурально, никого не желая видеть, пытаясь только понять, как жить дальше, как вообще можно жить, ничего, конечно же, не поняв, отрываясь иногда от стены и подходя к окну, разумеется, в котором каменные громады и детали сталинского барокко, эти палаческие причуды и замогильные завитки, бросившие, как мне казалось тогда, свою роковую тень на всю мою жизнь, вновь и вновь, вавилонским своим молчанием, говорили мне о невозможности спасения и выхода, о тщете усилий, о бессмысленности стараний. С Двигубским я не встречался в ту пору; чердак уже прекратил свое существование, запертый на замок; да я и вряд пошел бы туда, так плохо мне было; из чердачных кое-кто как раз эмигрировал; многие связи распались. Зима закончилась, в марте, психушкой (впрочем — «санаторного типа»), куда определил меня Ф.Е.Б., по призванию и по профессии психиатр, определил, впрочем, не только и не столько для облегчения моей, как я всерьез полагал тогда, душевной болезни, сколько, как бы используя эту, с его точки зрения, как я теперь понимаю, более или менее воображаемую болезнь в благих и практических целях, для получения правильного диагноза, не шизофрении, упаси Боже, обрекавшей на полнейшее уже бесправие в отношениях с Софьей Власьевной, но какого-нибудь, никого ни к чему не обязывавшего невроза, диагноза, который впоследствии, через пару лет, когда я закончу институт, куда после академического отпуска должен был возвратиться и где так называемой военной кафедры не было, и, следовательно, во всем своем грозном величии встанет вопрос об армии, соответствующей комиссии оставалось бы лишь подтвердить, что она, комиссия, делала относительно легко, тогда как новые диагнозы не ставила почти никогда, если же все-таки ставила, то влепляла все ту же шизофрению. План был хитрый и план удался. Из психушки я вышел обросшим рыжею бородою и, как ни странно, не таким несчастным, каким был до нее, не потому, разумеется, что лечение помогло мне, никакого лечения в ней, по сути дела, и не было, а просто, наверное, потому, что наступила весна, наступила, после полутора месяцев в совке, в грязной курилке и палате на восьмерых, в спорах с мечтавшей меня поставить на инсулин (чего я все-таки сумел избежать), дурно-пахнущей и слюно-брызгающейся врачихой, очередным воплощением все той же советской власти, — свобода. Выйдя же с бородой из психушки, понимая, что так, в общем, продолжаться не может, что надо что-то переменить, переломить, и увлекаемый в то же время некими кинематографическими идеями, так и не осуществленными мною, то есть мечтая, в самом деле, переломить жизнь и пойти по другому пути, Сделаться как-нибудь, когда-нибудь режиссером (поступив, например, по окончании института на так называемые Высшие режиссерские курсы; таков был мой план) и снять — я даже довольно хорошо представлял себе, какие именно фильмы, увлекаемый этими мыслями и мечтами и решивши, пока еще продолжается отпуск, проверить, как все это выглядит изнутри, устроился, не без некоторых усилий, на киностудию «Мосфильм» так называемым помощником режиссера, в просторечье помрежем, или, в еще более простом речье, хлопушкой, то есть тем нижайшим в студийной иерархии персонажем, который хлопает перед началом съемок черной штукой с вставленными в нее железными номерками, объявляя кадр такой-то дубль такой-то, кадр третий дубль второй и затем убегает из этого кадра, замирает, согнувшись, в остальное же время играет роль мальчишки на побегушках, каковую я все-таки долго играть не смог, почему и бросил все это, не дождавшись конца контракта, и довольно скоро кинематографические увлеченья утратив, сбрив заодно и бороду, как если бы одно с другим было каким-то таинственным образом связано. Съемки проходили отчасти в самой студии, в павильоне, отчасти же, и даже по большой части, на, как это называлось, натуре, изредка в Москве, как правило под Москвой, в каких-то заштатных заброшенных городишках, наконец, на Волге, под, кажется, Конаковом, где однажды чуть я не утонул, сброшенный в воду с лодки, в шутку, понятное дело, прикрепленным к нашей съемочной группе спасателем, типичным местным дядей Васей с фиолетовым носом, которому явно надоело сидеть в лодке без дела и слушать болтовню всех этих интеллигентов; он же меня, не на шутку перепугавшись, и вытащил. Были бесконечные, я помню, поездки по этим городишкам, поселкам, каким-то пансионатам, в поисках все той же натуры, бесконечные ожидания на солнцепеке, чудовищные, кисло-капустные, отравно-котлетные столовые, точнее — столовки, где все мы (кроме оператора-вегетарианца, поедавшего в сторонке свой собственный унылый салат) с отвращеньем и бранью обедали; были, в городишках, пустынно-булыжные площади, где неизбежный Ильич щурился на нас с постамента, предлагая прекратить, наконец, контрреволюционную деятельность, и высившееся за ним здание исполкома, райкома, адкома смотрело всеми своими, от партийных портьер ослепшими окнами, предлагая контрреволюционную деятельность немедленно прекратить; от всего этого я так уставал, что приходя домой вечером, падал, как правило, на кровать, и засыпал минут на десять или пятнадцать, чтобы потом, вскочив с кровати, с той энергией и тем нежеланием сидеть дома, которые я теперь уже почти и представить себе не в силах, за зиму насидевшись, еще пойти, не всегда, но часто, куда-нибудь в гости, вновь, следовательно, но уже на каком-то совсем другом витке и этапе возобновив ту жизнь, которую вел годом раньше, встречаясь вновь с Икой, иногда Спичкой и как их всех звали, попадая в теперь уже, впрочем, не чердачные, мастерские разных художников, или полу-художников, где собирались, соответственно, свои диссидентствующие или полудиссидентствующие компании и откуда я вновь возвращался домой, уже глубокой ночью, по почти пустынным, поливальными машинами щедро обрызганным улицам; домой же вновь возвратившись, видел, вновь засыпая, эти дороги, столовые, эту съемочную, с ее разнообразными персонажами, армянином-осветителем и крошечным корейцем-звукотехником, группу, и конечно же, эти затрапезные, по самые крыши опушенные в несчастие городишки, с их неизменным вокзалом и площадью перед оным, с коматозными окнами драконьего дома и памятником Ильичу, Кирпичу, с их обезглавленными церквами, старыми стенами, отвалившеюся штукатуркой, с их жалкими липами на жарком бульваре, их пылью, их бесконечными огородами, разбросом деревянных домиков на каком-нибудь косогоре, с которого открывалась вдруг почти неподвижная в своем величественном теченье река, мифологическая даль за рекою.
Двигубский позвонил мне однажды сам, спросил, усмехнувшись банальности вопроса, как дела, предложил, к моему удивлению, встретиться. Мы встретились по старой памяти у Чистых прудов (у Поганой, если угодно, лужи), в воскресенье, в мае — или уже, быть может, июне? — 1981, соответственно, года (как важны мне теперь эти даты; как невозможно поймать ими прошлое). Он показался мне очень повзрослевшим, каким-то окрепшим, даже руки его не так сильно болтались, как прежде. Пальцы у него были тонкие, а запястье уже тогда волосатое, с отчетливой косточкой. Была на нем какая-то глупая рубашка-ковбойка, в красноватую клетку, совсем не подходившая к серому, москвошвейскому пиджаку, на ногах при этом чуть ли не кеды. Так среди наших знакомых никто, конечно, не одевался. Я сам, при всех своих душевных невзгодах, еще был в ту пору пижон, еще гордился, и как еще гордился, французской вельветовой курточкой и замечательными замшевыми ботинками, привезенными мне из Парижа, о которых один мой полуприятель, осуществивший, кстати, кинематографический план, не осуществленный мною, то есть поступивший, в самом деле, после совсем другого учебного заведения, на режиссерские курсы, сказал, помнится, с вожделением на них глядючи, что — такие ботинки должны быть у всех, под этими всеми понимая, разумеется, в первую очередь себя самого, предмет его страстной любви. На Двигубского мои щегольские ботинки произвели гораздо менее сильное впечатление, чем его кеды произвели на меня. Он сообщил мне, что год тому назад закончил университет, что с аспирантурой, куда он должен был поступить, вышла, так он выразился, заминка, что его примут туда на следующий год, пока же он блаженствует, нигде не учась и не работая, но, как он, опять-таки, выразился, продолжая образование на свой страх и риск, занимаясь, в частности, древнегреческим языком, заняться которым было давней его мечтою, хотя следует признать, что шансов выучить сей язык богов и героев сколько-нибудь удовлетворительным образом у него, скифа и варвара, уже, в сущности, нет, если, конечно, он не посвятит этим занятиям все свое, теперь столь отрадно свободное, время, на что, однако, он тоже, увы, не способен, слишком много у него все-таки и других интересов и слишком сложным, по сравнению даже с латынью, оказался этот древне-греческий язык, от одного аориста можно сойти с ума, от склонения на — ми хочется пойти и повеситься. С другой стороны, обойтись без древне-греческого в жизни тоже никак невозможно. Нет, Гомера он еще не начал читать, он пытается читать трагиков, без большого успеха, хотя и с помощью одного замечательного старика, одного из последних, наверное, еще живых стариков такого уровня и калибра, который дает ему раз в неделю уроки, попутно рассказывая о своих колымских испытаниях, магаданских мытарствах, так что, если угодно, одна трагедия дополняет и оттеняет другую. Скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже, не Шекспира, проговорил я с той привычкой цитировать к месту и не к месту любимые строки, которая была мне в ту пору свойственна. К моему изумлению, он не узнал цитаты. На пороге стоит — Судьба. Был чудесный, легкий, весь в лужах и отсветах, день. Маршрут наш я помню довольно точно. Мы дошли до метро, пересекли Мясницкую, пошли по Сретенскому бульвару, мимо громадного, с его башенками, эркерами, фонарями, решеткой, целый квартал, в сущности, занимающего дома, построенного в начале двадцатого века страховым обществом «Россия», построившим, как известно, в Москве два знаменитых, для совсем другого двадцатого века предназначавшихся дома, пресловутый дом на Лубянке, с тех пор пропитавшийся кровью до последней своей половицы, и вот этот, отданный под коммуналки, на растерзание тараканам, тазам, кухонным склокам, в одной из каковых коммуналок, в поделенной на два узких отсека высокой комнате, жил тогда Тихон П. (в контексте эпохи имя почти немыслимое, но так его, действительно, звали), один из ближайших друзей моей молодости, с которым, увы, я напропалую поссорился в конце восьмидесятых годов; спустились по Рождественскому бульвару, свернули, не доходя до Трубной площади, влево, прошли мимо Богородице-Рождественского монастыря, мимо тех, вернее, развалин, полуразвалин, дворов и двориков, помоек и несуразиц, в которые превращен был к тому времени Богородице-Рождественский монастырь, куда я любил заходить, почти не задумываясь о прошлом этих несуразных дворов, гильотинированных церквей, как я и вообще в ту пору, в отличие от Двигубского, о прошлом дворов и домов не задумывался, но всякий раз, когда заходил туда, наслаждаясь тишиной, пустынностью и какой-то особостью этого места, как будто выпадавшего из города, грохота, из враждебного времени, вращавшегося вокруг, почему я иногда, и даже довольно подолгу, сиживал в самом дальнем его дворике, обнесенном покосившейся галереей, на которую выходил, бывало, с явно не нужной ему метлою, толстый татарин-дворник, смотрел на меня и тут же, ни слова не сказав, уходил; прошли, следовательно, мимо этих за полурухнувшею стеною спрятанных дворов и развалин, куда П. Д. нарочно повел меня через несколько лет, чтобы рассказать мне об истории этого монастыря, одного из древнейших монастырей Москвы, примечательного, среди прочего, тем, что именно там, обвиненная в колдовстве и бесплодии, пострижена была насильно в монахини Соломония Сабурова, первая жена Василия Третьего, разведшегося с нею вопреки увещеваниям жестоко поплатившихся за увещевания эти инока Вассиана Патрикеева и преподобного Максима Грека, а также иерусалимского патриарха, предсказавшего, что если московский князь во второй раз, при живой жене, женится, то иметь будет злое чадо, при котором царство наполнится ужасом и печалью, как оно, разумеется, и случилось, поскольку от второго брака Василия с Еленой Глинской, произошел, как все мы знаем, Иван Четвертый, за свою жестокость прозванный Васильевичем, Соломония же Сабурова, в монашестве София, вскоре сосланная из Москвы в Суздаль, пострижена была не только насильно, но, рассказывал мне Двигубский впоследствии, по распространившейся в народе легенде, беременною, в результате чего на свет появился будто бы сын ее, нареченный Георгием, единокровный брат Ивана Грозного, который (т. е. Иван) его (т. е. Георгия) разыскивал, с целью, понятное дело, немедленно уничтожить, но в розыске нимало не преуспел, поскольку, по легенде, Георгий этот превратился не в кого-нибудь, а в знаменитого разбойника Кудеяра, героя народных песен, славного своей жестокой удалью и лихой красотою (было двенадцать разбойников, был Кудеяр-атаман…); прошли, еще раз, мимо примечательнейшего этого места, мимо Архитектурного института, дошли до Кузнецкого Моста, спустились по нему, не задерживаясь, как почти всегда я задерживался, в Книжной лавке писателей, пересекли Петровку, затем Большую Дмитровку, тогда, разумеется, Пушкинскую, дошли до Тверской по Камергерскому переулку, называвшемуся в ту пору проездом Художественного театра, или проездом МХАТа, или даже просто проездом МХАТ, что приводило к немалой путанице с адресами, письмами, официальными справками, с каковой путаницей мне пришлось столкнуться впоследствии, когда весною 1985 года я туда переехал, чтобы прожить в этом проезде и переулке с весны 1985 до осени 1992 года лучшие, как мне теперь кажется, семь с половиной лет моей жизни, о чем я еще и подозревать не мог в тот майский, или июньский, весь в отблесках и лужах, день, точно так же, как не подозревал и не мог подозревать, разумеется, что, перейдя по подземному переходу Тверскую, тогдашнюю улицу Горького, пошли мы одним из моих, впоследствии, в это лучшее семилетие, излюбленных и постоянных маршрутов, мимо Центрального телеграфа, затем направо у обезглавленной церкви, превращенной наследниками и предателями Кудеяра в отделение этого телеграфа, или, выражаясь их языком, переговорный пункт, возле которого всегда стояли, скучали, курили солдаты, часами, видимо, ждавшие разговора с родной Алупкой, родным Ашхабадом; огибая так называемый Дом композиторов, с профилем Шостаковича на серой стене, через пыльный скверик с качелями — к Брюсовской церкви, большевиками не тронутой, проулочком и опять через сквер, по Шведскому, антисоветским своим названием пленявшему меня, тупику, мимо нового здания МХАТа, похожего на слоистый кирпичный пирог, мимо всегда, сколько я себя помню, стоявшей во дворе перед самым выходом на Тверской бульвар заржавленной старой машины, не могу только вспомнить теперь, была ли это «Победа» или крошечный послевоенный «Москвич», склоняюсь ко второму, затем — на бульвар, и дальше — к Никитской площади, возле которой зашли, наконец, в кафе, оттуда — к Арбату. Я не знал будущего, как никто не знает его, и не интересовался прошлым, во всяком случае так сильно, как интересовался им Двигубский; от исторических, филологических и вообще от всяких штудий я был, наверное, дальше в то лето моей жизни, чем в какое-либо другое, не говоря уже о зимах и осенях. Я рассказывал, конечно, о киностудии, предполагая, впрочем, что рассказы эти Двигубскому не могут быть особенно интересны. Предположения мои не соответствовали, как оказалось, действительности. Чем дальше я рассказывал, тем внимательнее он слушал. Была, наверное, некая игра самолюбия в этих моих рассказах, вот, мол, какой я крутой, какой интересной жизнью живу, в какие попадаю приключения. Всего-то и делов, что хлопал хлопушкой. Но не о том шла здесь речь. Я думаю теперь, что не столько само кино интересовало меня в ту пору, сколько некое чувство жизни, которое получал я от всех этих поездок, этих съемок, кадров и дублей. Мне был двадцать один год, было лето, неразрешимые вопросы остались неразрешенными, но и душевные тяготы, и ощущение болезни, и психушка были позади, и вот я ехал, допустим, сквозь очень солнечное, еще раннее, свежей влагой пахнувшее июньское утро, от Киевского вокзала на троллейбусе по Мосфильмовской набережной, глядя на сверканье воды в реке и какой-нибудь импрессионистический пароходик, пробиравшийся сквозь это сверканье, и проходил затем, показав пропуск, на студию, и начинались сразу какие-то дела, какие-то разговоры, телефонные звонки, чай и кофе, и всегда кого-то ждали, за кем-то надо было сбегать, и кто-то с кем-то, ясное дело, ссорился и ругался, и, наконец, отправлялись мы на автобусах и машинах, по пути распадавшейся кавалькадою, на натуру, в Конаково или в Звенигород…; некое было общее дело, которое мы делали, в котором я участвовал; дни казались заполненными, огромными; не зная будущего и не думая о прошлом, я так переживал настоящее, в какой-то, до той поры не ведомой мне, может быть, напряженности и полноте, и, опять-таки, еще не подозревая, конечно, что мне предстоит искать и находить другие, гораздо более действенные способы пережить это настоящее, это всегда ускользающее, недостижимое и все-таки вечно манящее, вечно влекущее нас мгновение, вот это сейчас, вот сейчас. Эта была просто молодость, если угодно; вот и все тут. Мне показалось, во всяком случае, — или, скажем иначе, вдруг, и даже с некоторым чувством благодарности, почувствовал я, — что он понимает это, это чувство жизни, о котором я вовсе не говорил, которое само, наверное, сказывалось в том, что я говорил, точнее, в том, как говорил обо всех этих кинематографических приключениях, об этом исходящем реквизите, съестных припасах, иными словами, каком-то, я помню, торте, который актеры ели в кадре и который мы потом доедали всей группой, об этих дурацких монтажных листах, которые я должен был заполнять после каждого съемочного дня, и об этом, впервые, может быть, с такой отчетливостью открывшемся мне социальном расслоении, которое, при всей общности совершаемого дела, в этой группе господствовало, о той бездне презрения и зависти, которая отделяла студийный пролетариат, среди коего я и сам оказался, осветителей, помощников администратора, гримерш, костюмерш, от режиссера, художника, оператора и актеров, всех тех, короче, кто на советском официальном языке назывался творческими работниками и кого костюмерши и звукотехники за глаза и с удовольствием обзывали творюгами. Тут обнаружилась в нем способность хохотать на весь Шведский тупик, тряся в ту пору очень густой шевелюрой и сгибаясь пополам, до действительного упаду, что, при его худобе и долговязости, вызывало за него почти страх, не сломается ли при следующем приступе хохота. Творюги, повторял он, творюги, точно, творюги и есть. А я бы вот сейчас, сказал он вдруг, обрывая свой хохот, вот сейчас съездил бы в какой-нибудь Звенигород, или Дмитров, в какой-нибудь Колязин, какой-нибудь Клин. Зачем же дело стало, сказал я, съездите. Только ничего там нету хорошего. Ночевать там негде, сказал он, гостиниц ведь нет, или мест в них нет никогда. А хорошего там много, и мне нужно, проговорил он в неожиданной для меня, какой-то робкой задумчивости, нужно было бы поездить по таким городам, городкам. Мы вышли как раз, хорошо это помню, на Тверской бульвар; он предложил посидеть на скамейке. У меня тут было, знаете ли, что-то вроде виденья. Он попросил у меня сигарету; закурив, долго смотрел на выпущенный им дым; откинулся на покатую спинку этой русской, из тонких, когда-то белых реек, с чугунными краями, скамейки; снова наклонился вперед; брови его взлетели; опустились; взлетели. Да, что-то вроде видения было у него позавчера ночью, сон или не сон, он сам не мог бы сказать, но что-то очень отчетливо увиделось ему во сне, или, скорее, перед самым засыпанием, на пороге сна и в предсонье. Это называется гипнагогическим состоянием, вставил я, знавший термин от Феба. Набоков в «Других берегах» описывает. Мне показалось, что «Других берегов» он в ту пору еще не читал. Читал, зато, Боратынского. Есть бытие, но именем каким, медленно, как будто вдумываясь в каждое слово, проговорил он, назвать его, не сон оно, не бденье, меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разуменье. Какие неуклюжие и какие восхитительные стихи. Вот здесь-то, в этом промежутке между еще не сном, уже сном, в этом безымянном бытии, на границе разуменья с безумием, увиделось ему нечто, с тех пор не дающее ему покоя. Что же? Вот именно — что же? Вы сами знаете, Макушинский, как трудно пересказать сон, как бледнеют образы, запертые в слова, как меркнут краски этих подводных существ, светившихся в темноте, гаснущих на свету. Оставим сравнения. Он думает все-таки, что это был не сон, не совсем еще сон, и потому так думает, что происходившее в этом предсонье происходило не с ним, как обычно бывает во сне, но с кем-то, он только видел, его самого там не было, он был только зрителем. А был там кто-то, кто-то другой, герой этого не-сна. И был город, был маленький город какой-то, окруженный холмами, вот, очень маленький город, вот как это было, город в долине. И герой входил в этот город, вместе с армией, потому что шла война в этом сне, в этом городе. И в городе этом почему-то он оставался. Нет, там как-то было сложнее, я уже не знаю, не помню, и не это главное, а главное то, что происходит в тюрьме. Его сажают в тюрьму в этом городе. И вот кто-то убеждает его бежать. Нет, какой сокамерник и подельник, не смейтесь, Макушинский, что вы, никакой не сокамерник, скорее следователь и допросчик, такой грузный, тяжелый. А он знает, что не надо бежать, что это все обман, что его заманивают в ловушку. А тот зовет, тот соблазняет. Дверь открыта, все готово к побегу. Я пришел освободить вас, я только притворяюсь вашим врагом. Он делает один шаг, делает и другой. Он движется как сомнамбула. Теперь бегите, бегите. И вот прожектор, проволока, тюремные стены. Он должен перелезть через стену, к стене приставлена лестница, он спрыгивает с другой стороны, с вышки в него стреляют, и все. Все? Все, сказал Двигубский, попросив у меня еще одну сигарету. Убит при попытке к бегству, и — все. Я заметил, что из этого можно было бы сделать фильм; замечание мое, показалось мне, ему не понравилось. Совсем не обязательно делать из этого что-нибудь, сказал он, глядя куда-то вверх, на колебавшиеся в чистом и легком воздухе вершины вязов, отделявших боковую аллею, в которой мы сидели, от широкой и главной; аллея, в которой сидели мы, ровной линией, в блаженной перспективе сужаясь, уходила к Никитским воротам.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



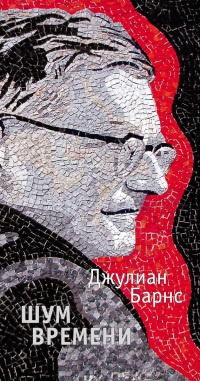

Комментарии