Как я был Анной - Павел Селуков Страница 4
Как я был Анной - Павел Селуков читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Но вернёмся к ангелочкам в саду. Летел я на юг, хоть и один, хоть и с полупустым чемоданом, хоть и с решительным намерением вина в рот не брать. Зовут меня Владимир Павлович Вокулес, сам я из бывших немцев, мелкобуржуазных, ничем примечательным в истории России не отметившихся. Разве что была у нас аптека, да и ту пожгли в 1917 году, перепутав с пьяных глаз Вокулеса с Мойшей, то есть немцев с евреями. Как говорил мой отец, «обознатушки-перепрятушки», но перепрятушек не вышло. Оглядываясь назад, то есть совсем назад, за пределы своей биографии, я понимаю, что приставка «немец» сгинула в нашем роду задолго до моего рождения, в конце 30-х, когда национальности почти исчезли, уступив место слову «коммунист». Меня к немцам и вовсе отнести трудно, потому как говорю и думаю я исключительно на русском, а немецким владею на уровне протестантских гимнов, которые на той неделе распевал в кирхе на Екатерининской.
На юг, да ещё одиноко, я поехал не от хорошей жизни. Любой человек, осиливший любую из книжек Ремарка, рано или поздно задаётся глупым вопросом о смысле жизни. Я им тоже задавался, но потом окончил школу и зажил равнобедренно. Вернее, попытался. Под ногами моими было неширокое, но крепкое основание из протестантской этики и воспитания вообще, а вверх взмывали две тяготеющие одна к другой прямые линии — труд и семья. Я специально, не только здесь, но и везде, избегаю слов «карьера» и «работа», чтобы не потерять из виду суть своего дела, а именно — труд. Кому-то оно может показаться ветхозаветным, но точнее я придумать не смог. Очень прямо, ровно и ясно представлялась мне жизнь из одиннадцатого класса. Тогда я действительно думал, что это мне именно жизнь представляется, а не биография. Юности свойственно распространять свою судьбу на всю жизнь. Но даже биографию свою, клочок этот, микрозаплатку, ровной сделать мне не удалось.
Закачало, замотыляло меня ещё в детстве. Урывки, урывки… Пух тополиный в сандалии лезет, дом розоватый, два этажа, пёс Буран чумку подхватил, отец с ружьём, мать уехала с челноками, «Денди» купили, продали лишний холодильник «Бирюса». Отец с покупателем, чужим дядькой — руки-грабли, ворочают его по деревянному полу, а мама вздрагивает, губы жуёт, как же — краска-то слазит, мужик гу-гу-гу, отец бу-бу-бу, а у меня чувство детское, пустое, но острое, как жало осиное, — рушится мой мир, растаскивают. Дядька этот, отец, своими руками, ужас, слёзы, а объяснить не могу, мал, лепет, бессвязность. Во всём бессвязность. Или вот девочка Катя. Стройка, упала, оцарапала коленку. Плачет из синих глаз на загорелую кожу. А я подорожник принёс, грязный, пыльный, облизал, не сомневаясь, присел, подул, налепил. Так и сидим. И всё так важно, так значительно — и холодильник, и подорожник, и небо, каким оно тогда было, и запахи — пироги бабушкины из духовки, гудрон горячий. Невозможно это не полюбить, как невозможно поверить, что будет большее горе, чем продажа холодильника, и будет большее счастье, чем прилепить подорожник и дуть на коленку, нежно держа девочку за руку.
Я нарочно таким языком это всё написал, чтобы вы поняли, какая страшная сентиментальность владела мною с детских лет. Я думал, она владеет всеми, я думал, все охочи переживать переживания и страдать страдания, и совершать внутри себя бурю ради самой бури, ради остроты. Дети, да и подростки редко способны смотреть на себя со стороны и мерить себя тем мерилом, которое впоследствии назовётся «общим», хотя общим никогда и не будет, а будет лишь представлением об общем, таким же далеким от истины, как перевёрнутое изображение в глазах младенца, или плоская земля, или то, что солнце вращается вокруг земли.
Из этой тяги к сентиментальности, казалось, ничего вылиться не могло, однако вылилось очень многое. Я, как бы это сказать, стал легко подвергаться трагическим идеям и трагическому образу. Мне нравились книги, где герой погибает в конце. Особенно мне нравилась Библия. Возможно, я превратно понял христианство. Жизнь рисовалась мне недолгим, но предельным напряжением сил, оформленность которым придавала смерть. Я, например, горевал по Артюру Рембо, буквально обвиняя его в том, что он не умер в Париже, на руках Верлена, в зените своих возможностей. Жизнь торговца, которую он вёл дольше жизни поэта, виделась мне оскорблением красоты. Красота очень быстро стала ключевым понятием моего существования. Я украл красоту у детства, потому что моя способность восхищаться необычным разводам в луже до сих пор перекрывает способность цинично не удивляться ничему.
Собственно, трагедия заинтересовала меня и проникла под кожу не столько из-за нравственного конфликта, который, кстати, не всегда в ней и есть, сколько из-за красоты, из-за того, что красота — это предельное напряжение человеческих сил.
Я искал трагедии, как бедуин ищет оазис. Сначала я нашёл её в подростковой безответной любви, потом в бессмысленности бытия, позже — в незнании своего призвания. Вместо того чтобы жить равнобедренно, раздваиваясь лишь между семьёй и трудом, как выдумалось мне ещё в школе, я зажил рвано и дико, не умея заинтересовать себя надолго чем-либо, кроме нарушения границ и бегства от всякой жёсткой структуры, внешней или внутренней. Я физически не мог принять запретов, кроме, разве что, самых очевидных, вроде красного огонька светофора. Постепенно, не сразу, из человека, ищущего трагедии, я превратился в персонажа трагедии, а моя жизнь — в некое подобие пьесы. Многие люди играют роли бессознательно, свою я играл осознанно. В попытке достичь правдоподобия я не гнушался ничем. Я спасал девочку Катю, ту самую, с подорожником, от наркотической зависимости. Я даже придумал учёного Тома Уайдлера, который в начале 70-х специально подсел на героин, чтобы пройти дорогой выздоровления, вжиться в шкуру наркомана, побороть зависимость и, наконец, помочь другим сделать то же самое. Во мне всё переплелось. Я хотел переживать трагедию, хотел крайних состояний, хотел бунта и в то же время хотел служить людям, спасать их, бросить себя на алтарь, закрыть грудью дзот, самораспяться на кресте.
Всё это мне казалось большим. Точнее, только ради большого я хотел жить, и, конечно, сам себе я казался большим, но большим не был. На самом деле во мне поселилась червоточина, противоречие, потому что я хотел выйти из нормы, взять за руки отбившихся от стада и вернуть их к норме, хотя сам ей и не думал покоряться.
Чувство особости, сверхчеловечности, в духе Ницше, то ли из-за материнской гиперопеки, то ли из-за того, что памятью, умом и ловкостью я превосходил многих своих сверстников, рано поселилось во мне, направив помыслы в оригинальное русло. Я хотел другим того, что отвергал сам, и в этом желании был бесконечно лицемерен. К двадцати пяти годам я сменил с десяток профессий и почти растворился в наркотиках, алкоголе и азартных играх. Я стал плоским, неинтересным самому себе. Те, кого я спасал, или умерли или встали на ноги; я же копошился на дне, с каждым днём ощущая, как тают мои силы, столь необходимые для рывка. Лицо моей жены, молодой ещё женщины, всё больше напоминало библейский лик, так точно и глубоко проступили на нем росчерки горя.
Отчаявшись совладать с собой, я начал вести дневник. Я хотел обличить самого себя, нащупать хоть какую-то правду, обнажиться, дойти до сути, перестать играть и решиться жить. Знаю, моё повествование звучит горестно, но жизнь моя — ни тогда, ни сейчас — горестной не была. Скорее, она напоминала качели — то мерно раскачивалась, то вдруг замирала, а то рвалась из рук, взмывая «солнышком».
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
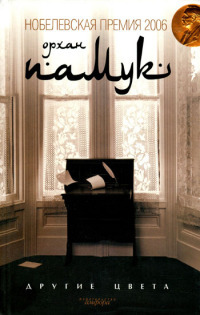




Комментарии