Carus, или Тот, кто дорог своим друзьям - Паскаль Киньяр Страница 39
Carus, или Тот, кто дорог своим друзьям - Паскаль Киньяр читать онлайн бесплатно
Мы остались одни. Обсудили проблему Поля. А. стал уверять меня, что хорошо его понимает. Он не сохранил таких чудесных воспоминаний о детстве.
— Детишки в раннем возрасте, — сказал он, — когда они еще не ходят и не говорят, часто начинают очень рано понимать, что ночью, в постели, единственный источник нежности для них — уголок теплого одеяла, который они сжимают в кулачке, а не материнская любовь. Если бы дети обладали даром речи, они бы доказали нам, что этот уголок одеяла несет с собой гораздо больше утешения, ласки, внимания, преданности, а также безопасности — таких необходимых ребенку, — чем матери, которые относятся к ним как к неразумным животным, козлам отпущения для их ненависти. Дети — жертвы шантажа любовью взрослых…
— Вероятно, маленькие дети добавили бы, — продолжал он, — что те, кто их создал, всего лишь дублируют этот теплый уголок атласного одеяла, под которым они лежат в постели. Причем дублируют довольно грубо, неуклюже, отличаясь лишь одним преимуществом — возможностью визжать и кричать.
Memorial Day [73]. Глэдис предпочла остаться с Анриеттой в деревне. Марта, Элизабет и А. сели в машину Йерра. Я пошел пешком вместе с Рекруа. По дороге встретили Божа. Пришли с небольшим опозданием. Коэн рассказывал о Баварии. В общем, получился «американский банкет», вполне оживленный, но без каких-либо длинных дискуссий.
Томас явился с большим опозданием. Мы уже сидели за столом. Много раз звонили ему, но никто не брал трубку. Мы уже начали бояться, что он забыл о встрече.
Когда он вошел, мы приступили к речной рыбе.
При появлении трех красавиц-щук под белым соусом разговор опустился до гастрономии. «Слово „мудрость“ свелось к слову „слюна“», — сказал Бож. «То, что связывает и разделяет», — сказал Р. «Разница между сладостью и горечью, и, может быть, вкус смерти и вкус жизни», — рискнул я заметить. Но Элизабет решила расставить по порядку все главные вкусы. По ее мнению, их было восемь, доминирующих над всеми остальными:
— Сладкий, как мед, горький, как абсент, жирный, как масло, соленый, как морская вода, едкий, как чеснок, вяжущий, как сосновые шишки или недозрелые яблоки, пряный, как устрицы, и кислый, как уксус…
Рекруа и Йерр тут же нашли повод для спора. Р. утверждал, что единственные «противоположности» — это чеснок и уксус. Едкий и кислый так же антагонистичны, как черное и белое. Тем временем Йерр драл глотку, предавая анафеме его «противоположности» и внушая нам, что едкое и кислое недостойны такого определения и что мы имеем в виду сладкое и горькое.
Т. Э. Уинслидейл возмущался тем, что мы предпочли словесную баталию его щуке. Его белому соусу. В котором нет ни меда, ни дегтя. И вновь пустил по кругу чашку с этим соусом. Потом мы стали разговаривать о разных пустяках.
Во-первых, о судьбах мира. В основном наша компания разделилась на три группы: 1) Т. Э. Уинслидейл, который заявил, что со времен Воюющих царств [74]мир испортился (Йерр: «Не испортился, а испортили!»);
2) Бож, Элизабет, А. и Томас, которые возразили: «Он всегда был таким. Мерзким. Одинаково мерзким»; 3) Р. и я, которые сказали: «Бессмысленно сравнивать. Всегда было несравнимо. Он стал не хуже, и не лучше, и не такой же. Неописуем по определению».
Коэн начал передразнивать Уинслидейла, щуря глаза.
— Букеты, — сказал он, — после того, как их соберут, распадаются. Все возникает, не удерживается и никогда не заканчивается. Дома, любимые люди, богатства, смерть, красота — ничто не сопровождает нас в смерти. Мы обречены блуждать по земле, блуждающей под ногами. Все реальное рассеивается, как люди на рынке. Все умирают, лишаясь своих тел…
Коэн смеялся не умолкая. В общем-то, смеялся только он один. Йерр вернулся к оставленной теме.
— Какой взгляд бросают растения на мир? — спросил он, крайне довольный своей фразой.
— Но мира-то как раз и нет! — ответил Р. — А может, их — миров — было несметное множество! Мир — это некая воображаемая форма на окружающем ничто.
— Какая пустота — вся эта земля! Какая случайность! Какая вселенская оплошность! — сказал А. <…>
Йерр объявил:
— На земле все делится на следующие категории: портвейны, портмоне, портпледы и портфолио. — Он умолк, потом добавил: — Я забыл еще портсигары и портфели.
Это не рассмешило никого, кроме его самого. <…> Разговор постепенно переходил в вульгарную перебранку. Коэн пытался топать, невзирая на больную ногу. Рекруа поносил вперемежку Плиния Старшего и Гитлера, Руссо и Морра, Горация и Ницше. Р. упорно внушал нам, что земля была загублена самой идеей природы.
— Нет, — говорил он, — мира нет. Нет даже времени, единства времени.
— Тогда какой же день, — ядовито спросил Томас, — ты назовешь вчерашним?
— Вспомните, что сделал Цезарь на семьсот восьмой год от основания Рима [75], — огрызнулся Р.
— А Наполеон в начале тысяча восемьсот шестого [76], — добавил Коэн.
— И какой день после четвертого октября тысяча пятьсот восемьдесят второго года можно назвать Пятнадцатым октября? [77]— спросил Йерр.
— Не было никогда никаких дат, — продолжал Коэн. — Само слово себя опровергает. Или же датировка сомнительна, или она датирует саму себя и, значит, не датирует вовсе. Датировка определяется как крошечная точка во временной серии, которая выделяет ритмы, ею же изобретенные и размеченные в угодном ей порядке. Таким образом, каждая временная серия определена датой, или, иначе, «легендой». Датировать — значит снабдить умершего легендой. Снабдить скорбь историей. Время — это нечто высказанное! — добавил он торжествующе.
— Что означает сия тарабарщина? — вопросил Йерр.
— Прошу у вас минуту внимания, — сказал У, неожиданно встав из-за стола. Он прошел в библиотеку и вернулся с потемневшей от времени страницей текста, написанного по-китайски. — Хочу прочесть вам один отрывок, — сказал он.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



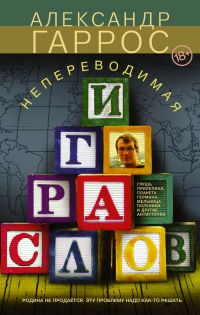

Комментарии