Не плакать - Лидия Сальвер Страница 38
Не плакать - Лидия Сальвер читать онлайн бесплатно
Да, ибо Монсе замечала день ото дня все чаще, что в стычках отца с сыном она всегда про себя принимает сторону дона Хайме. И недаром: между ней и доном Хайме постепенно зарождалась некая подспудная симпатия. Защищенные в каком-то смысле связавшими их узами родства, они мало-помалу позволяли себе свободу и взаимное доверие, о которых Монсе и помыслить не могла еще несколько месяцев назад, убежденная, что ее низкое происхождение внушало свекру лишь презрение или, в лучшем случае, равнодушие.
Однажды, когда они вместе пили кофе в гостиной, дон Хайме повернулся к Монсе, ласково накрыл ее руку ладонью, своей белой, женственной ладонью, какие бывают только у богачей, и попросил: Монсита, ты не могла бы зажечь мне сигариллу? И это «Монсита» вкупе с мягким прикосновением его руки словно бальзам пролило на сердце Монсе (моя мать: откуда что взялось?), и с того дня он звал ее не иначе, как этим ласковым уменьшительным именем, которого ни отец, ни брат, ни муж никогда не употребляли, стыдясь, стесняясь или боясь показаться слабыми. Испанец (говорит моя мать) чувствует себя смешным, произнося ласковые palabras, ему кажется, что они надлежат только женскому полу. У испанца, моя милая, очень обостренное ощущение своего мужского начала, даже вздутое, смею сказать, большую часть своей жизни он твердит, что оно у него есть и недаром, это утомительно. Не дай тебе бог, моя Лидия, связаться с испанцем. Я тебе это сто раз говорила.
Остатки робости Монсе перед доном Хайме как рукой сняло.
И Монсе обнаружила, что за отрешенным видом, который он так старательно сохранял, крылась готовность к дружбе, любовь и нежность, которую Диего постоянно отвергал, в то же время ее желая, нежность, пробившаяся теперь сквозь защитный панцирь, та самая нежность, которую годы потрепали, но все же не убили.
Так и не обмолвившись об этом ни словом, дон Хайме и Монсе были счастливы друг подле друга, чувствуя тягу, какой никогда еще ни к кому не испытывали, неизведанный и радостный лад и прилив душевных сил, поистине благотворный для обоих.
Монсе теперь лучше переносила пламенные речи доньи Пуры против засилья красных пролетариев, которые разрушали предприятия, а с какой, спрашивается, целью? да просто им лень работать! да-да, а вы как думали? равно как и ее непрестанные стенания от болей в не в меру чувствительных и католических органах и членах.
Что же до дона Хайме, который всегда находил множество предлогов, чтобы поменьше бывать дома и проводить вечера в соседнем селенье со своим другом Фабергатом за стаканчиком вермута с сельтерской, теперь он с удовольствием оставался с «тремя своими женщинами» и играл, como un tonto, сcomo un nico [166] в морской бой или в лото горошинами и фасолинами. И он радовался, что превратности войны и нрав сына в каком-то смысле преподнесли ему невестку Монсе на блюдечке.
Дон Хайме в эту пору чувствовал себя втайне помолодевшим, а Монсе втайне «возвысившейся», как сказала бы донья Пура.
С доном Хайме Монсе узнала, что галантные знаки внимания облегчают отношения и вовсе необязательно являются синонимом бабьих ужимок (как утверждал ее отец) или буржуазного лицемерия (как утверждал Хосе). Война, говорил дон Хайме, не должна делать нас дикарями. На что его сын тут же парировал, что, мол, дикари — это те, кто эксплуатирует бедных крестьян, и атмосфера в гостиной немедленно становилась предгрозовой.
По его примеру она научилась уделять внимание тому, как одета (дон Хайме был единственным мужчиной в деревне, одевавшимся элегантно: после июльских событий все старались выглядеть победнее и носить одну грязную рубаху несколько дней кряду, чтобы, не дай бог, не сочли за классовых врагов, ибо красные в этом вопросе были особенно придирчивы). Научилась она и изысканным словам, таким как благоприятствовать, недомогать или погрешить против истины, которых при ней отродясь никто не употреблял, отчего казалась себе изрядно поумневшей.
Ей привился вкус к красивому, букетам далий, расставленным на столах, разложенным в идеальной симметрии столовым приборам, блюдам, подававшимся искусно украшенными, в веточках петрушки. Этот вкус она сохранила на всю жизнь, и он стал, в пору французских скитаний, ее своеобразным сопротивлением (сопротивлением ностальгии, сопротивлением печали, но главное — сопротивлением бедности, на которую обрекла ее жалкая зарплата Диего, когда он нашел работу на стройке в Тулузе, на предприятии «Мир».
Нередко Монсе и дон Хайме вместе смеялись, чаще всего без причины или, вернее, по той лишь причине, что им было радостно, им, столь несхожим, чувствовать такую близость друг к другу. Мы были большие забавники оба, говорит мне моя мать, и какое-то философское сходство имели, cool, как ты бы сказала, хоть он был наверху, а я внизу. Монсе и дон Хайме оба видели крушение своего мира, его мира, привычного и, казалось, незыблемого мира старых традиций, с которого слегка смахнули пыль метелкой добротного социализма, и ее мира мечтаний и химер, перенесшего ее в сказку в пятнадцать лет и с каждым днем тускневшего в глазах ее брата, но и он, и она, без ностальгии и жалости к себе, почти всегда держались легкого тона в общении и купировали готовые разразиться семейные драмы, уводя разговор к нейтральным с политической точки зрения темам (в частности диетическим: Вы будете салат с горошком? или лучше олью [167]?) и беззлобно посмеиваясь над непрошибаемыми догмами Диего, в надежде их поколебать, и еще более непрошибаемыми догмами доньи Пуры, но без малейшей надежды поколебать и их, ибо с тем же успехом могли обращаться к стулу. Впервые за долгое время Монсе и дон Хайме ощущали тепло на сердце, доверие, непринужденность, глубокую симпатию и, при всей их несхожести, новое чувство, которое они, как бы назвать его без розовых слюней? Скажем так, они чувствовали друг к другу amistad [168] (моя мать говорит, что по-испански это звучит гордо, ладно, я не против).
Однажды вечером, когда Диего дежурил в мэрии, донья Соль удалилась в свою комнату, а донья Пура прилегла (обе очень кстати недомогали), дон Хайме и Монсе остались после ужина вдвоем в гостиной.
Монсе давно хотела побыть с ним наедине. Не раз она собиралась с духом, чтобы кое в чем ему признаться, но его (духу) всякий раз Не хватало из-за несвоевременного появления того или иного члена семьи.
И вот в этот вечер, подав коньяку дону Хайме, который провозгласил с улыбкой: Полцарства за коньяк! (почему полцарства? — говорит моя мать, загадка!), Монсе уселась напротив и, набравшись смелости, призналась, что, уж не обессудьте, ее очень обидела фраза, произнесенная им 18 июля 1936 года в 10 часов утра, когда она пришла наниматься в прислуги: Она выглядит скромницей, эта фраза, в которой ей послышалась невыносимо презрительная нотка, задела ее больнее, чем отцовский ремень, так больно, что она, ни больше ни меньше, возжелала революции.
Дон Хайме смешался.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


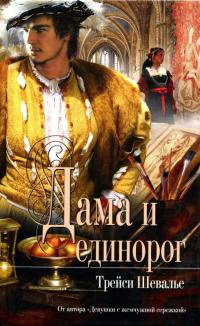
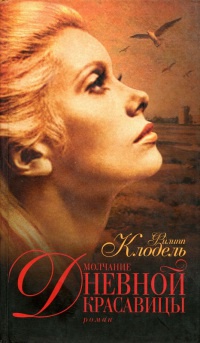

Комментарии