Генеральша и ее куклы - Светлана Шишкова-Шипунова Страница 34
Генеральша и ее куклы - Светлана Шишкова-Шипунова читать онлайн бесплатно
Наконец–то
Я новую книгу купил.
Читал, читал
Далеко за полночь…
Эту радость трудно забыть!
У нас даже возникла маленькая домашняя игра: Гоша, который по утрам уходил раньше меня, раскрывал чёрную книжечку на какой‑то странице и оставлял на видном месте. Я просыпалась и читала:
Как трещина
На белом абажуре,
Неизгладима
Память
О разлуке.
В свою очередь, я находила другое пятистишие и тоже оставляла раскрытой страничку. Он возвращался первым и читал моё ответное «послание».
Во времена Такубоку мы были почти счастливы.
Беременной я почувствовала себя после поездки на выходные в Домбай. Начальная стадия этого процесса уже была мне печально знакома, теперь предстояло узнать, как всё бывает дальше. Оказалось, что это самое замечательное из всех состояний женщины. Единственное, в котором тебя перестают занимать вопросы: кто ты, зачем живёшь, для чего, в чём смысл твоей жизни… То, что происходит внутри тебя, к чему ты постоянно прислушиваешься и на чём вся теперь сосредоточена, — это и есть ответ на все вопросы, объяснение и оправдание твоего существования. Никогда я не ощущала себя до такой степени женщиной (впервые не испытывая при этом ни раздражения, ни досады), как при вынашивании ребёнка. Вот когда природа взяла своё!
В эти девять месяцев мы с Гошей стали окончательно родными. Он только что на руках меня не носил, страшно гордился моей беременностью, мечтал о сыне, сам все делал по дому, каждый день спрашивал: «Ну, чего тебе сегодня хочется?». Мне хотелось то пива, то арбуза, то яблочного пюре «Неженка», и, возвращаясь вечером с работы, он нёс мне в авоське все сразу, на случай, если желание моё успело с утра до вечера перемениться. В дни своей беременности я любила Гошу тихой, благодарной любовью.
…Всю последнюю перед родами неделю, сидя на нашем балконе, я читала книжку из серии «Библиотека приключений» (помнится, книголюбы называли эту серию «рамочка»). Это был «Ларец Марии Медичи» Еремея Парнова. Почему я читала именно её – сказать не могу, может, больше в доме на тот момент нечего было читать. В одно прекрасное утро начались схватки, но я не была уверена, что это они, и решила подождать, убедиться. Осталась лежать в постели, взяла книжку и стала читать. Гоша сидел рядом с часами в руках и отслеживал периодичность схваток. Когда стало ясно, что они наступают через одинаковые промежутки времени, он сказал:
— Все, поднимайся потихоньку, и едем в роддом.
Мы были одни в квартире, его родители, жившие в соседнем подъезде, ещё с вечера укатили на дачу, телефона там не было, и он опасался, что не успеет меня довезти. Я же продолжала лежать и сказала, что пока не дочитаю, никуда не поеду. Оставалось с полсотни страниц. Гоша кружил по комнате, не зная, что со мной делать, и только спрашивал:
— Ты ещё можешь терпеть?
Я отвечала, не отрываясь от книги:
— Могу.
К 12 часам дня я с сожалением перевернула последнюю страницу и сказала:
— Ну, поехали.
Вечером того же дня, в 20 часов 20 минут благополучно родился на свет наш сын.
Родиться труднее, чем родить. У бедного маленького человечка лопнули сосудики в глазках и образовалась на макушке небольшая гематомка – так тяжело ему пришлось. А ты – большая, ты взрослая, ты способна осознавать происходящее и в меру сил управлять собой, вокруг тебя врачи и акушерки, а он один в кромешной тьме, беспомощный, ещё неразумный… И надо думать не о себе, а о нём, думать, что это ты не себя освобождаешь от утомительного бремени, а его вызволяешь, помогаешь ему выйти на свет божий.
Он родился, но я не услышала его голоса и испугалась.
— Скажите, пожалуйства, а мой мальчик плачет? Громко? Ну, слава Богу…
Вот нас и трое. Гоша сам купает маленького, сам обрабатывает зелёнкой пупочек, ездит в аптеку за укропной водичкой, встаёт к нему ночью, достаёт из кроватки и подкладывает к моей груди. С первого дня он его фотографирует и развешивает увеличенные портреты на стенах. Мы без конца смотрим на эти портреты и любуемся: какой у нас красивый мальчик!
Если бы мне сказали тогда, что это счастье продлится от силы два года и что вслед за ним потянется череда долгих и тяжких лет, я бы… А что бы я могла сделать, что изменить? Расстаться с Гошей? Нет, это было уже невозможно, уже всеми клеточками души я была прочно привязана к нему, уже он был родной и близкий, и у меня никогда не достало бы сил оставить его на произвол судьбы. Такой судьбы.
Сколько раз я пыталась начать писать об этом и всякий раз уклонялась, находила причину: я ещё не готова… вот именно сейчас я не могу… лучше я пока напишу о том, что было «до» и «после», а об этом – потом, позже… Боюсь ли я прикоснуться к этой теме спустя столько лет? Опасаюсь ли сделать больно людям, которые сегодня рядом со мной? Да нет, они эту историю знают, кажется, не хуже меня. К чему же тогда эти уловки, отчего такое смятение, такой страх, будто добегаешь до какого‑то препятствия, а перемахнуть через него не можешь и в который раз трусливо пятишься назад или вовсе увиливаешь в сторону.
Что лукавить, прекрасно я знаю ответ на этот вопрос, и он таков: написать – значит заново пережить, а вот этого я как раз и не в силах. Так уже бывало со мной. Когда боль, причиняемая каким‑нибудь особенно тяжёлым воспоминанием, становилась нестерпимой, мозг сам переключался на иную тему, мысль отвлекалась, ускользала, прыгала, путалась, прерывалась и, в конце концов, уносилась далеко–далеко, и наступало облегчение. Я усвоила этот приём, и не раз сама, чуть подступало то, страшное, гнала его от себя и начинала думать о том–о сём, о чём попало, лишь бы отвлечься.
Вообще‑то я немного, самую малость, мазохистка, и в детстве, поранив, например, палец, нарочно его трогала и ковыряла, чтобы проверить: болит – не болит. Но, видимо, есть такой порог боли, за который даже мазохистке вроде меня переступить трудно.
Что ж, нельзя ли в таком случае вообще обойти эту «больную» тему, пропустить, оставить за пределами повествования? Не хочешь писать – не пиши, кто тебя заставляет! Но… Тут‑то и происходит раздвоение личности. С одной стороны возникает «персонаж», с другой – «автор». Персонаж сопротивляется, скулит: пожалей меня, не рви мне душу! А автор наседает: надо, вот так (показывает на горло) надо, без этой сюжетной линии – никуда. Это ж, можно сказать, самый драматический, а значит, ключевой и переломный момент всей твоей жизни. Так что возьми себя в руки и – пиши. Всё равно, пока не напишешь об этом – не избавишься от наваждения и душу не облегчишь.
Какой же он провокатор, этот сидящий во мне «автор», ничто ему не свято!
Но так и быть, я расскажу эту историю, исключительно ради тебя, моя девочка. В конце ты поймёшь, почему.
…Нашему сыну было два года, когда у Гоши случился первый приступ неизвестно какой болезни. Потеря сознания, судороги, скорая помощь, больница, отделение нейрохирургии, капельница, он уже пришёл в себя, но ничего не помнит и понять, что с ним было, не может. На первый раз сочли за случайность. Но вот ещё приступ, и ещё. Это уже серьёзно, надо обследоваться. Одни врачи говорят одно, другие – другое. Воспаление мозга, менингит, эпилепсия… Все не то. Надо ехать в Москву, на худой конец, в Ленинград. Надо найти кого‑то, каких‑то друзей, знакомых, которые могли бы помочь, устроить. Сначала Бехтеревка, высокие своды, белые стены, жуткая процедура под названием ангиопневмография – закачивание кислорода под черепную коробку, в сосуды мозга. Адская боль. И безрезультатно. Потом институт Бурденко, там, говорят, есть единственный в Москве томограф, но попасть очень трудно, надо ждать очереди. Мы ждём. Приступы тем временем становятся почти ежедневными, уже нельзя работать. Постоянный, три раза в день, приём противосудорожных таблеток, фенобарбитал и что‑то ещё. Наконец, можно ехать в Бурденко. Томограф. Странные картинки мозга в разрезе. Молодой хирург по имени Игорь Александрович, родной племянник кинорежиссёра Ростоцкого, выходит и говорит:
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
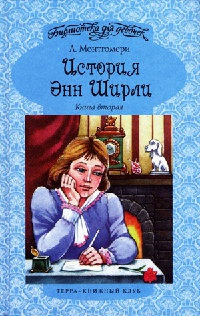
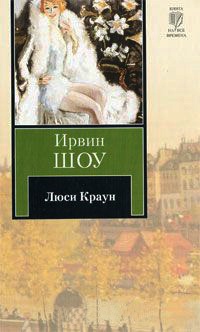
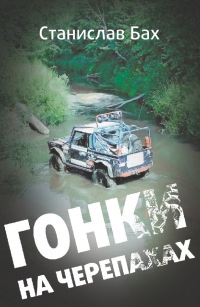
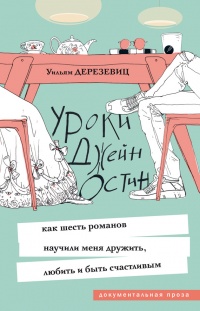

Комментарии