Евреи и Европа - Денис Соболев Страница 32
Евреи и Европа - Денис Соболев читать онлайн бесплатно
В истории эта цель более или менее очевидна. Историки сознательно стремятся понять происходившее на самом деле, независимо от того, что думали об этом участники или свидетели самих событий. В филологии же, и в особенности в русской филологии, ситуация гораздо более проблематична: филологи часто видят в эстетических и философских декларациях писателей ключ (если не отмычку) ко всем проблемам, связанным с их книгами. А между тем это далеко не так: как показали французские и англо-американские исследования последних десятилетий, замкнутый мир книг гораздо сложнее тех простых декларативных принципов, к которым обычно пытаются свести этот мир его создатели; более того, иногда взгляды тех или иных писателей оказываются диаметрально противоположными их литературной практике. Как это ни странно, в большинстве случаев писатели оказываются не способны проанализировать свои книги и их место среди запутанных переулков культуры. И поэтому не существует пути более ненадежного, чем вера в то, что те или иные писатели говорят о себе, своих книгах и их месте в культуре.
Наконец, следует отметить, что во всем, что касается еврейской цивилизации, некритическое принятие высказываний самих писателей относительно их культурной принадлежности сталкивается с дополнительной проблемой. Многие из писателей еврейского происхождения по-разному определяли свою культурную принадлежность в разные моменты своей жизни. Так, Мандельштам, открестившийся, как известно, от «хаоса иудейского» в «Шуме времени», в «Четвертой прозе» напишет, что европейское писательское ремесло «в том виде, как оно сложилось в Европе, и в особенности в России несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь». Более того, если в том же «Шуме времени» Мандельштам, хотя и с известными оговорками, причислит себя к российскому имперскому миру, в тридцатые годы, меньше чем через десять лет, он напишет свои знаменитые строчки: «С миром державным я был лишь ребячески связан… / И ни крупицей души я ему не обязан, / Как я ни мучил себя по чужому подобью». Следует ли из этого, что Мандельштам двадцатых годов был русским поэтом, а Мандельштам тридцатых неожиданно стал еврейским? Узнаваемость голоса и цельность поэзии Мандельштама делают это заключение маловероятным. Гораздо вероятнее, что мучительное неприятие «хаоса иудейского» в «Шуме времени» — это и есть одна из тех попыток мучить «себя по чужому подобью», о которых говорит Мандельштам в «С миром державным…». И поэтому в свете написанного в тридцатые годы легко прийти к выводу, что декларации «Шума времени» не вызывают доверия и Мандельштам должен быть сочтен именно еврейским поэтом. Но в таком случае позволим себе мысленный эксперимент. Зададимся вопросом, что бы было, если бы Мандельштам погиб в конце двадцатых годов и не написал строчек, процитированных выше. Написанное в «Шуме времени» стало бы последним словом, сказанным Мандельштамом о его культурной принадлежности. Следовало бы из этого, что он является русским поэтом? Но ведь речь идет о том же самом Мандельштаме двадцатых, в написанном которым дата его смерти уже не может ничего изменить. Иными словами, попытка обосновать веру в декларации самих писателей неизбежно вовлекает своих приверженцев в круг многочисленных логических противоречий и неразрешимых вопросов. Более того, тот же самый мысленный эксперимент возможен и, например, в случае Гейне. Крестившись по окончании университета (по всей вероятности, из чисто прагматических соображений), он все же назовет крещение «входным билетом в европейскую культуру». Однако перед смертью Гейне будет утверждать — с характерной для него смесью иронии, двусмысленности и серьезности, — что не может вернуться к еврейству, поскольку никогда от него не уходил. Здесь, как и в предыдущем случае, мысленный эксперимент может вывести на поверхность противоречия, заложенные в чрезмерном доверии к автодискрипции. Предположив, что Гейне умер на десять лет раньше — и соответственно не написал поэму про Иегуду Алеви, и не успел подчеркнуть, что никогда не уходил от еврейства, — историк литературы, слепо следующий авторскому самоописанию, обнаружит себя в глубоко противоречивой ситуации не только на фактическом, но и на логическом уровне.
И поэтому первый шаг к пониманию той или иной книги и ее места в истории культуры, который должен сделать культуролог, — вынести за скобки декларации ее автора, в том числе и все декларации автора относительно его собственной культурной принадлежности. Иными словами, тот факт, что Гейне называл себя немецким поэтом, представляет интерес, главным образом, для биографа — для исследователя, пишущего о Гейне как о человеке — человеке, который, как мы знаем, часто хотел и никогда не мог быть своим в окружающем его немецком мире. Для культуролога же, то есть для ученого, которого интересует в первую очередь не человек по имени Генрих Гейне, а набор текстов, несущих на себе это имя, подобная информация не представляет особого интереса. Или точнее, эта информация может представлять интерес на достаточно позднем этапе исследований — на стадии соотнесения биографического материала и результатов филологического анализа. Но этой стадии должен предшествовать скрупулезный анализ самих книг Генриха Гейне.
Переходя к самим текстам, следует сказать, что простейший и наиболее популярный подход к решению вопроса о культурной принадлежности книг, написанных евреями в рамках европейских культур, обычно сводится к вопросу: «А что же они, собственно, говорили про евреев?» Согласно этому подходу однозначная апологетика считается признаком принадлежности к еврейской литературе, а критика в адрес еврейского мира или образа жизни — признаком разрыва с еврейской культурой. На самом деле в чистом виде и то и другое встречается очень редко — и обычно у писателей средней руки. И потому при анализе более сложных взглядов — скажем, позиции того же Мандельштама с его отторжением «хаоса иудейского» и гордостью «званием иудея» — принято говорить в лучшем случае о частичной принадлежности к еврейскому миру. Впрочем, подобный взгляд противоречит всем нормам анализа культуры, принятым в других «национальных» областях. Если бы восхваление своей нации было главным критерием принадлежности к национальной литературе, то самыми русскими писателями были бы славянофилы и почвенники, Пушкин и Толстой существовали бы в русской литературе на птичьих правах, а писавшего по-французски русофоба Чаадаева не следовало бы подпускать к русской литературе на сто верст. Но историкам русской культуры прекрасно известно, что восхваление того или иного народа (или отказ от подобного восхваления) ничего не говорит о культурной принадлежности писателя. Историкам культуры еврейской еще предстоит это понять и научиться более жесткому взгляду на свою культуру — и на самих себя.
Аналогичный урок из общеевропейской филологической практики должны извлечь сторонники еще одного подхода к поставленной проблеме. Эти исследователи пытаются идентифицировать культурную принадлежность тех или иных книг, исходя из близости последних к традиционной еврейской литературе и традиционным формам еврейской жизни. Согласно подобному взгляду, Шолом-Алейхем и Зингер являются еврейскими писателями, кандидатура Бабеля может быть обсуждена, а Пруст и Деблин, Мандельштам и Бродский таковыми однозначно не являются. И это один из наиболее популярных подходов. Впрочем, как и в предыдущем случае, подобная схема кажется убедительной только на материале еврейской литературы. Тот факт, что в стихах Пушкина влияние Горация и Парни много заметнее, чем влияние «Повести временных лет», не превращает Пушкина в древнеримского или французского поэта. И тот факт, что Лесков или Глеб Успенский несомненно ближе Пушкина или Набокова к традиционным формам русской жизни, не делает последних менее русскими писателями. Иными словами, на материале русской культуры становится достаточно ясно, что ни отсутствие национального самоумиления, ни отказ обратиться к «подлинности народной жизни» не должны повлиять на идентификацию культурной принадлежности.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

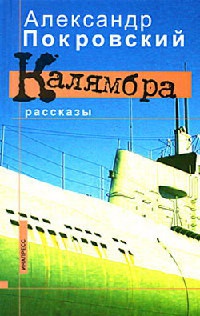
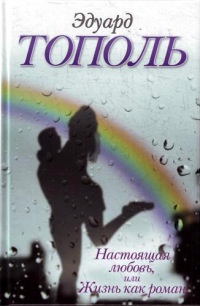
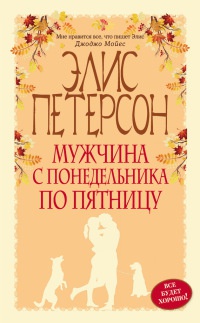
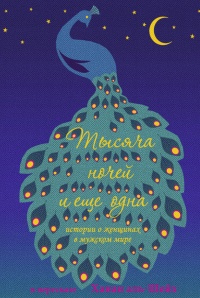
Комментарии