Сладкая жизнь - Александр Генис Страница 30
Сладкая жизнь - Александр Генис читать онлайн бесплатно
Герои Беккета всегда ходят парами — Владимир и Эстрагон в «Годо», Хамм и Клов в «Эндшпиле», Винни и Вилли — в «Счастливых днях». Все они, как коробок и спичка, необходимы друг другу, хотя между собой их связывает лишь трение. Взаимное раздражение — единственное, что позволяет им убедиться в собственном существовании. Зная об этом, Винни ценит в общении возможность выхода: «Я не просто разговариваю сама с собой, все равно как в пустыне — этого я всегда терпеть не могла — не могла терпеть долго. Вот, что дает мне силы, силы болтать, то есть».
Ее болтовня — средство связи, в которой важен не «месседж», а «медиум», не содержание, а средство. Речь покоряет тишину, мешая ей растворить нас в себе. Но живы мы не пока говорим, а только, когда нас слышно.
Обращаясь к Вилли, Винни вырывается из плена нашей безнадежно одинокой психики. Разговор ее — как услышанная молитва. Если у нас есть хотя бы молчащие (как в зрительном зале) слушатели, монолог — все еще диалог. Не полагаясь на то ли немого, то ли глухого Бога, Винни создает себе «Другого» не в метафизическом пространстве, а из подручного, пусть и увечного материала.
В той супружеской паре, которую Беккет вывел в «Счастливых днях», один не дополняет, а пародирует другого. У Винни нет ног, у Вилли — их как бы слишком много. Одна не может ходить, другой способен передвигаться только на четвереньках. Винни врастает в землю, Вилли по ней, по земле, ползает.
От своих актеров Беккет требовал неукоснительного следования ремаркам, занимающим чуть ли не половину текста в пьесе. Верный жест был для автора важнее слова. Говорить люди могут что угодно, но свободу их движения сковывает не нами придуманный закон — скажем, всемирного тяготения. Подчиняясь его бесспорной силе, мы демонстрируем границы своего произвола. Смерть ограничивает свободу воли, тяжесть — свободу передвижения.
К тому же, у Беккета болели ноги. Пожалуй, единственный образ счастья во всем его каноне — человек на велосипеде, кентавр, удачно объединивший дух с механическим телом. Молой, один из многочисленных хромающих персонажей Беккета, говорит: «Хотя я и был калекой, на велосипеде я ездил вполне сносно». Эта простая машина помогала ему держаться прямо.
Герой Беккета — человек, который нетвердо стоит на ногах. Оно и понятно. Земля тянет его вниз, небо вверх. Растянутый между ними, как на дыбе, он не может встать с карачек. Заурядная судьба всех и каждого. Беккета ведь интересовали исключительно универсальные категории бытия, равно описывающие любую разумную особь. Как скажет энциклопедия, Беккета занимала «человеческая ситуация». А для этого достаточно того минимального инвентаря, которым снабдил своих актеров театр «Черри-лэйн». Однако, при всем минимализме пьесы, в ней угадываются сугубо личные, автобиографические мотивы. Как и в двух своих предыдуших шедеврах, Беккет списывал драматическую пару с жены и себя. Друзья знали, что в «Годо» попали без изменения диалоги, которые им приходилось слышать во время семейных перебранок за столом у Беккетов. «Счастливые дни» копируют домашний быт автора с еще большей достоверностью.
Колченогий и молчаливый Вилли, любитель похоронных объявлений, — это, конечно, автошарж. В нем Беккет изобразил себя с той безжалостной иронией, с которой он всегда рисовал свой портрет. Но Вилли в пьесе — второстепенный персонаж и отрицательный герой. Главную — во всех отношениях — роль играет тут Винни. В ней воплощена сила, сопротивляющаяся философии. Она — тот фактор, который делает возможным наше существование. Винни, — это гимн рутине. Сократ говорил, что неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы ее тянуть. У героев Беккета нет другого выхода.
— Я так не могу, — говорит Эстрагон в «Годо».
— Это ты так думаешь, — отвечает ему Владимир.
И он, конечно, прав, потому что, попав на сцену, они не могут с нее уйти, пока не упадет занавес. Драматург, который заменяет своим персонажам Бога, бросил их под огнями рампы, не объяснив, ни почему они туда попали, ни что там должны делать. Запертые в трех стенах, они не могут покинуть пьесу и понять ее смысла. Ледяное новаторство Беккета в том, что он с беспрецедентной последовательностью реализовал вечную метафору «Мир — это театр». Оставив своих героев сражаться с бессодержательной пустотой жизни, он представил нам наблюдать, как они будут выкручиваться.
Вилли и не пытается это сделать. Сдавшись обстоятельствам, он мечтает о конце и дерзает его ускорить. В финале спектакля он ползет за револьвером. Но Винни слишком проста для такого искусственного конца. Она тупо верит в свои счастливые дни, заставляя восхищаться собой даже автора.
В дни, когда писалась пьеса, Беккет переехал в новую квартиру. Она была устроена по вкусу обоих супругов. В кабинете писателя стояли стул, стол и узкая койка. Зато в комнатах его жены не оставалось живого места от антикварной мебели, картин и безделушек. В пьесе вся эта обстановка поместилась в сумку закопанной Винни. Обывательница, как раньше говорили — мещанка, она находит утешение в своем барахле, столь же бессмысленном, как ее речи. Оно помогает ей забыть о том, что с ней происходит и куда все идет. Мужество Винни в том, что она из последних сил и до последнего вздоха заслоняется от бездны, от ямы, в которую ее затягивает время. Счастливые дни — те, что мы прожили, не заметив.
Литература в России всегда была уголовно наказуемым занятием, ибо власть ревновала к писателю. Преувеличивая свою роль, она от мнительности приписывала схожие амбиции авторам. Я не говорю о процессе Лимонова. Его сочинения последних пятнадцати лет не имеют отношения к словесности, а обсуждать их автора я не хочу, пока он сидит в тюрьме [2]. С делом Сорокина все обстоит иначе. Факт преследований с причудливой точностью выделил необычного писателя, вынудив обсуждать его книги тех, кто не только их не читал, но и не должен этого делать.
Сорокин и не претендовал на аудиторию. Он писал для себя, а не для читателя. Об этом он с болезненной, я бы сказал, искренностью говорит в своем интервью:
«Я любитель, а не профессионал. У меня отношение к этому процессу как к сугубо приватному занятию. Для меня это род терапии… щит от социума, попытка борьбы со своей психикой. Для меня текст и процесс писания — это транквилизатор, который многое глушит и позволяет забывать об ужасе этого мира, в котором мы оказались (я имею в виду не советский мир, а просто эту реальность)».
Однажды Сорокин объяснил мне это еще проще: «Когда пишешь, не страшно».
И все-таки, несмотря на абсурдность обвинения в порнографии, власть по-своему права. Слепая и чуткая, как подсознание, она опознала в Сорокине разрушительное (а не соблазнительное, что ему инкриминируется) начало. Эта путаница прежде всего обманет тех, кто надеется найти в сорокинских книгах клубничку. Порнография выделяет секс из потока жизни, Сорокин его в нем прячет. Предельно технологичные эротические описания в его книгах ничем не отличаются от остальных.
Сорокинская эстетика нейтрализует любые эмоции, включая и сексуальные. Это — генеральный принцип его творчества. Попав в литературу из живописи, Сорокин перенес в текст художественные принципы соседнего, но отнюдь не смежного искусства. Его палитру составляют разные стили, заранее, как краски в тюбиках, приготовленные мировой литературой. Он заботится о распределении текстовых объемов, сочетании стилевых пластов и уравновешенности композиции. Чтобы увидеть сорокинскую книгу такой, какой ее задумывал автор, к ней надо было бы прикладывать «раскраски», где каждый из многообразных стилевых кусков можно затушевать цветными карандашами.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


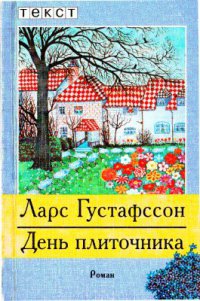


Комментарии