Театральная история - Артур Соломонов Страница 3
Театральная история - Артур Соломонов читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Подойдя к зеркалу, Александр стал репетировать, произнося то с гневом, то с насмешкой, то со смирением: «Так точно!» Исчерпав весь возможный диапазон эмоций, он загрустил. Не надо быть ясновидящим, чтобы предвидеть: эта фраза вряд ли произведет фурор в зрительном зале. Со скорбью оглядев свое отражение, он отчалил в сторону дивана, лег и стал писать в дневник, который вел очень давно, со времени первой детской обиды, когда поделиться было не с кем, а чувства переполняли и нашли наконец чернильный выход. С тех пор он усердно заносил в дневник все совершавшиеся с ним события. В шкафу за книгами скрывались десятки тетрадей с откровениями Александра.
Он относился к себе предельно серьезно. Любой стакан казался ему предвестником бури. Бурлил Александр большей частью по поводу своей непризнанности и даже попытки философствовать завершал жалобами: «Вокруг меня столько людей, словно застрявших между жизнью и искусством, как будто требующих, чтобы я их досочинил, а главное – доиграл. Люди кажутся мне набросками, черновиками, которых Бог, если так можно выразиться, недотворил. Возможно, Он доверил это мне? Порой я чувствую в себе неиссякаемую силу – это волнами поднимается мой ответ на приглашение к сотворчеству.
Но почему тогда я лишен успеха? Почему изо всех слов, которые я в течение сезона произношу со сцены, можно составить лишь один коротенький моноложек, в котором будут только безликие слова: "Нет" ("Ричард Ш", стражник), "Да" ("Собака на сене", слуга), "Спасибо, я справлюсь" ("Месяц в деревне", прохожий), "Как это вам удалось?" ("Слуга двух господ", посетитель трактира), "Так точно" ("Дни Турбиных", белогвардеец), и наконец главная моя реплика, самая длинная за мою театральную жизнь: "В конце концов, в его годы это обычное дело" ("Калигула").
Добавлю ли я к своим актерским победам хотя бы несколько предложений, где были бы – о, мечта! – прилагательные?»
Были в дневнике Александра три страницы, написанные красной ручкой. Озаглавлены пафосно: До сотворения меня. Александр понимал, что название не вполне точное. Но оно ему так полюбилось, что он не мог от него отказаться.
Актер со священным трепетом написал о том моменте, когда его, «еще не рожденного, приговорили к театру».
«…От ярости его ноздри раздулись – он мгновенно это почувствовал.
Она с усилием сглотнула – так она делала всегда, борясь с гневом, словно пытаясь протолкнуть его куда-то вглубь, избавиться от него.
Он снова почувствовал обжигающую волну ненависти: ведь он давно знал, что этим движением она пытается подавить свое презрение к нему.
В одно мгновение они решили заговорить и высказать до дна свою ненависть, не оставить неназванной ни одну ее черную грань. Сейчас будет поставлена точка, и из комнаты, где воздух пропитан злобой, выйдут два свободных человека.
Но все случилось иначе. У нее вдруг сдавило горло, она сделала два шага к нему, обняла и приложилась к плечу щекой. Он обнял ее и что-то зашептал, и через несколько минут они уже не верили, что совсем недавно ненависть была так ощутима.
– Ты прав. Этого делать нельзя, – сказала она, и когда он великодушно попытался протестовать, прикрыла его рот ладонью.
…Когда спрашивают день моего рождения, я его, конечно, называю. Но если бы я не боялся показаться дураком, я бы рассказывал о том мгновении, когда моя мать обняла отца. Тогда мне было позволено остаться.
Я, двухнедельный сгусток, заставил двух взрослых, чужих друг другу людей заключить мучительный союз. Они оба надеялись на лучшее, но очень скоро поняли: им предстоит долгое путешествие, лишенное любви.
В момент бессильной (нет, напротив, весьма сильной) ярости мой отец рассказал (нет, он это выпалил, как пулеметную очередь из раскаленных слов) мне о том дне, когда было принято решение в мою пользу.
Когда я это услышал, мне было одиннадцать лет. Уже тогда, глядя в налившиеся яростью глаза отца, я понял, что узнал то, чего не должен был знать никогда.
Тем же вечером я спросил маму. (Дверь в комнату отца была закрыта уже несколько часов, казалось, он заперся там от стыда, сам не понимая, как мог рассказать мне об этом.) Она мыла посуду. Остановилась – я слышал, как сливается вода в жерло раковины.
– Чепуха, злобная чепуха. Как же ты довел его до такого?
И она продолжила мыть посуду, только гораздо быстрее. Мама – фанат чистоты – не замечала, сколько остается на тарелках причудливых, очертаниями похожих на медуз пятен жира. Но я-то это отметил, а через час увидел, что мать стоит у двери в комнату отца. Она стояла не меньше минуты и ушла.
Через пять лет, когда эта история овладела мной, и корежила меня, и вызывала смех и презрение к обоим, и жалость к себе, и чего только не вызывала, я спросил маму снова. Момент был правильный: после вечеринки она была нетрезва и снова поругалась с отцом. Мама сказала, что оставить меня хотела она, а он сопротивлялся. Что это была минутная слабость мужчины и что я должен простить отца.
– Ты тоже не очень-то обрадуешься, когда какая-нибудь твоя девушка сообщит, что мне, твоей матери, предстоит стать бабушкой.
И в трезвом виде мама не старалась скрыть свой феноменальный эгоизм, но эта фраза, сконструированная ее пьяным мозгом, побивала все рекорды – а их она ставила каждый день. Что из того, что я в принципе могу стать отцом – какие пустяки. Эпохальность возможного события заключалась в ее превращении в бабушку. И фраза "какая-нибудь твоя девушка" – тоже весьма типична для мамы. Моя девушка может быть только "какой-нибудь".
Родители противоречили друг другу в одном маленьком пункте – кто был за меня, а кто против, но главного уже не отрицали. Я – человек, который существует только благодаря тому мгновению, когда мама решила, что объятия лучше, чем вопли. Я сам – случайность…»
На этом три гневные страницы заканчивались. Внизу стояло многоточие – знак того, что проблема не осталась в прошлом. Она владеет настоящим и претендует на власть в будущем.
На следующее утро мобильному прокукарекать не удалось. Будильник был поставлен на десять, а звонок телефона раздался в полдесятого. Александр нажал кнопку ответа и услышал голос своего коллеги, актера Семена Балабанова. Он грохотал, он возмущался: «О люди! Порожденья крокодилов!» – не здороваясь, прорычал Балабанов шиллеровский текст. «Кто ж сомневается-то», – сонным голосом ответил Александр. «Ага! Тебе смешно! Так посмейся же громче! „Ромео и Джульетту“ будут ставить! И кто сыграет Ромео? Кто?» – «Кто?» – тихо переспросил Александр и получил в ответ рев: «Сергей Преображенский! Смейся теперь, паяц!»
Александр недолюбливал Балабанова – размашистые жесты, раскатистый голос, повадки провинциального трагика девятнадцатого века ему претили. Потому об откровенном разговоре с Балабановым не могло быть и речи. Александр не стал обсуждать с ним назначение. Тем более что он знал: чем больше он скажет, тем больше Семен процитирует. Причем фантазия Балабанова разбушуется неимоверно. Он понесет по театру: «Утром Сашке звонил! Он в полнейшем шоке! Он упал со стула – я своими ушами слышал грохот! Упал и говорит: „Этому смерду, этому плебею, этой каракатице, этой сороконожке, этой инфузории дали роль Ромео! Я увольняюсь! Я уже уволен!“»
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


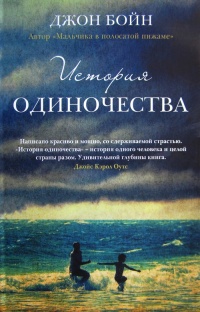


Комментарии