К развалинам Чевенгура - Василий Голованов Страница 3
К развалинам Чевенгура - Василий Голованов читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Думала, что пятаки – а это яйцы таки…
Бабки завизжали словно девки, застигнутые в бане парнями, и понесло их в Пречистую Бога Мать через всю их лихую молодость, войну, колхозные трудодни, слезы об умерших мужьях и детях и все несбывшиеся надежды…
Медсестра за перегородкой измеряла кому-то давление. Сцену снимал корреспондент местного телевидения, как зримое проявление заботы. Я ж пристроился к тете Пане поближе – послушать разговор.
– Я перед дочерью-то каялась: прости, говорю, что у тебя детства не было… Я ведь телятницей была, ее с собой водила, а у каждой телятницы в колхозе было по тридцать коров да три дойки…
Я стал высчитывать, сколько нужно времени, чтоб трижды тридцать подоить коров, но получалась какая-то ни с чем не сообразная цифра в 23,5 часа, которую тетя Паня обсмеяла: «Я ж аппаратом доила, миленькой… Рукам разве столько надоишь? Рукам летом доила на пастбище тех, кто поздно отеливши – так десяток ли будет за два часа?»
И вдруг, как о счастье каком-то, вспомнила, как распек ее директор колхоза Охотин за то, что не положили хвою в корм коровам. «“Клади, – кричал, – партбилет на стол!” – А потому, что все было: корма, транспортер, дрожжи варили, солому парили, хвою эту мололи, отруби заваривали – но и надаивали по три тысячи! А сейчас как увижу эти развалины в окно – глаза б не видели, скорей бы рухнуло все и заросло!»
Не суди меня, девчата, что я с песни
сбилася,
Я на курсы не ходила, в школе не училася! —
низким хриплым голосом проорала баба Лиза, несколько раз запускавшаяся было в пляс, но тут приметившая, что за столом уже некоторое время присутствует ее муж, по-видимому, явившийся к бабьему столу от истощения у мужского меньшинства хмельного продукта.
– Мишенька, – сорванным голосом позвала баба Лиза. – Ты как здесь, родной, оказался-то?
Баба Лиза проработала телятницей на ферме тридцать лет. Это самая нежная, почти материнская животноводческая работа. А муж ее Миша был лучшим в деревне механиком. Про них даже в газете писали, в смысле: трудовая семья. Дядя Миша и сейчас всякие механизмы и в особенности бензопилы выправляет досконально; но речь трудная у него, невнятная, быстрая, внюхивающаяся и хрюкающая, как у ежика, внезапно извлеченного на свет из норки. Не ответив на вопрос жены, дядя Миша стал в меня внюхиваться и урчать, протягивая пустой стаканчик. Я налил ржаного самогону. Баба Феня, острым взглядом бригадирши оценив ситуацию, сделала знак подойти: «Не наливал бы ты ему, он пьяный нехороший». И такая в этих словах прозвучала материнская нежность, что я понял, что переживает старуха за дядю Мишу – не за меня. Дядя Миша и впрямь, скошенный самогоном, все ниже склонял голову на плаху стола и не видел уже ничего, уходя, как в норку, во тьму забвения Малой Пречистой и не слыша ни зовов жены своей, ни песни про дуб да рябину, которую я не припомню, чтоб где-нибудь с такой горечью, с такой слезой еще пели одинокие женщины…
Может показаться, что все это никакого отношения к поездке на волжский исток не имеет. Но я оговаривался уже, что исток – это еще и завет, и слово, и тот достоверный мир, который всегда излечивал меня от всех недугов. Бывают ведь совпадения личного плана. В поездку меня вышвырнуло напором обстоятельств, справиться с которыми я сам уже не мог. Я отправлялся к истоку в глубоком разладе с самим собой и с близкими. Что-то в самом деле происходило то ли с миром, то ли со мной. И было желание почти буквальное: добраться до начала начал и прикоснуться… Потому что каждый исток, а тем более такой – это изливающаяся на поверхность сила. От великого избытка, как песня, рождается река, и казалось почти естественным, что даже там, у истока, где она совсем еще мала, можно от ее избытка отчерпнуть – и силы ее не убудет, если ты в своей человеческой малости преклонишь колена и отопьешь. Попьешь немного живой ее водицы. И, подкрепившись таким образом, распутаешься наконец и с собой, и с миром.
Таковы были мои внутренние обстоятельства. Но в машине в результате оказалось нас четверо: поэтесса и писательница Таня Щербина, мой друг фотограф Александр Тягны-Рядно, моя восьмилетняя дочь Саша и я. Был канун первомайских праздников. Москва, как гигантский вулкан, объятый завесой пепла, волна за волной исторгала из себя лавовые потоки скрежещущих автомобилей. Час мы выскребались из Москвы. Еще два добирались до Клина, где стокилометровая пробка начала помаленьку рассасываться.
Разумеется, у каждого из нас было вполне рациональное, ничуть не менее логичное, чем у меня, объяснение, почему это ему взбрело в голову ехать к истоку Волги. Но, как выяснилось по мере нашего продвижения, у каждого была еще причина своя, особая, связанная с рекой такими глубокими личными отношениями, что этому, особенно в наши дни, невозможно было не удивиться. Я, разумеется, умственно «понимал», что Волга для всех обитателей российских пространств, живущих по эту сторону Уральских гор, – это универсальный символ огромного напряжения, с которым связано все – время вообще, история, личная история, детство, зрелость, смерть («…издалека долго // течет река Волга…»), размежевание родного пространства и даже его сочленение с пространствами неродными и весьма отдаленными. Но то, что все мы, и мои попутчики тоже, окажемся повязанными с рекой неразрывными родственными узами, словно это не река и не вода, а кровь и кровеносная жила, было по-настоящему поразительно узнать.
Но ведь папоротники детства не вдруг прошелестели. И было детство. Счастливое. Прекрасная девочка Таня. И мир – прекрасный и незыблемый. Только потом стало ясно, что все висело на волоске – все-таки бабушка тяжело болела, уже случались с нею обмороки, пугающие взрослых. Но что может знать маленькая девочка об утратах, грядущих, как обещание праздника? Бабушка купила билеты на теплоход. Два билета. Себе и внучке. Никто не имел решимости воспротивиться – и они поплыли. До Астрахани. По Волге. Это была волшебная страна. Бабушка подолгу стояла на прогулочной палубе, вглядываясь в очертания берегов, в прекрасные воды. Бывало, что ей делалось плохо – но, как всегда, ничего серьезного не происходило. Ибо что может знать маленькая девочка, живущая под покровом бабушкиной любви, о грозных предвестниках?
Вскоре после возвращения из путешествия бабушка умерла. Следом за нею умер и дед. Мир рухнул. Детство кончилось. Но Волга – последний бабушкин дар – осталась.
Потом девочка прожила еще несколько все более взрослых жизней. Одна из них, длиною в восемь лет, пришлась на Париж и была тоже и полной, и счастливой. И вот на излете этой жизни Таня Щербина – уже парижанка – снова оказалась ненадолго на родине, в Москве, с тем чтобы сопроводить группу своих новых компатриотов, французов, в поездке по Волге на теплоходе.
– Понимаешь, мы плыли по тому же маршруту, останавливались в тех же городах, что и тогда, с бабушкой. В городах, которые я запомнила, как сказку. Я ничего не узнавала. А то, что видела, было ужасно. Углич. На пристани пьяные женщины продают часы местного завода «Чайка». Толкаются, дерутся: «Ты куда вперед лезешь, б…?» Строения. Обшарпанность – это не то слово. И убожество – не то. Убитость. Я была в ужасе, в настоящем ужасе. Я не знала, куда бежать из этого кошмара. Но интересно, что именно после этой поездки я вдруг приняла решение вернуться в Россию. Навсегда.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

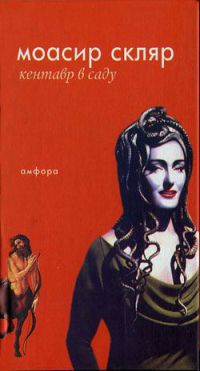

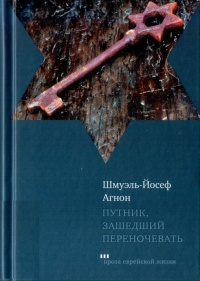
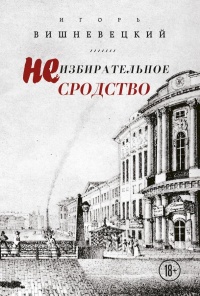
Комментарии