Идущие в ночи - Александр Проханов Страница 3
Идущие в ночи - Александр Проханов читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Пушков, наступив ботинками на мохнатую бахрому ковра, глядя исподлобья на светильники, на ордена, на нетронутый красный бокал, прикрытый корочкой хлеба, вспомнил своих солдат, погибших во время штурма. Механика-водителя Савченко, чья веснушчатая рыжеволосая голова, похожая на лукавую лисью мордочку, высовывалась из люка машины. Санинструктора Молчанова, что сутуло бежал среди рытвин, придерживая санитарную сумку. Автоматчика Хрусталева, медлительного деревенского увальня, сидящего перед печкой, брызгающего струйки солярки на сырые чурки. Он вспомнил их не убитыми, не лежащими на железном днище в санитарном транспортере. Не их открытые оскаленные рты и недвижные глаза. А живые лица, которые улыбались, шевелили теплыми губами, моргали глазами. Взвод нес потери. Он, комвзвода, идущий в бой в первой линии, видел гибель каждого.
– Буду мстить «чечам» за наших парней!.. Мстил и буду мстить!.. – Клык упер в колени костяные кулаки, напряг под розовым халатом могучие плечи. Лицо его отвердело, в нем обозначились грубые стыки, ребра и плоскости, как сварные швы на броне транспортера. Он стал шарить глазами по стенам, отыскивая свой автомат, словно собирался немедленно пустить его в дело. И во всем его облике, минуту назад благодушном и размягченном, обнаружилась жестокость и ярость. – Живыми не брать!.. В подвал гранату и очередь, а потом разговор!.. За ноги к «бээмпэ», по городу потаскать, а потом разговаривать!.. Бабы у них как змеи, и дети – змееныши! Зубами готовы кусать!.. Я бы войска назад отвел и атомную бомбу сбросил, чтобы от сучьего места яма осталась и русский солдат живой до дома дошел!.. Ненавижу!..
Клык, состоящий из желваков, побелевших костяных кулаков, набрякших белков, освещенный злыми светильниками, сидел на расшитой подушке. Пушков чувствовал его свирепую правоту. Эту правоту он подтверждал, когда бежал в атаку, уклоняясь от пуль, мягко кувыркался, пропуская над плечом пулеметную очередь, по-звериному плавно полз, проминая снег, всаживал разящие очереди, осыпая оконные стекла, вламывался в подъезды, пробивая мускулами тонкие переборки, с косолапой верткостью бежал вдоль фасада, кидал гранаты в подвальные люки, ударами грязных подошв сталкивал с лестницы убитых бородачей, слушая костяные удары головы о ступени.
Теперь, в этой комнате, Клык в своей страстной ненависти был откровенен и прав. Выражал накопившееся у солдат угрюмое стремление подавить ненавистный город. Истребить несдающегося врага. Расквитаться не только за свои потери и муки, но и за всю унылую, годами длящуюся русскую жизнь, в которой чахли и страдали их родичи, беднели их деревеньки и городки, отовсюду, невидимые, не имеющие явных причин, сочились унижение и тоска. Здесь, в Грозном, люди терлись о шершавые фасады, ползли по колючей земле, обгорали в едких пожарах, и с них постепенно стачивалась тусклая короста уныния, пропадала неуверенность и печаль. Обнажалась глубинная, донная ненависть, до которой докопались в солдатах бородатые боевики, оставляющие на путях своего отступления трупы оскопленных десантников, тела изнасилованных русских женщин.
– Ты мне вазу подарил, Косой!.. А ты бы мне лучше чеченские уши подарил!.. Чтоб я из них кошельков понаделал!.. Или на подошвы пустил!.. Дома в чеченских ботинках на свадьбе сплясал!..
Все соглашались, не возражали сержанту. Пушков чувствовал в себе угрюмую ожесточенность, которая здесь, в Грозном, была слепым ответом на постылую гражданскую жизнь.
– Нельзя уши резать… Озвереешь… Детей и женщин жалеть надо… У них от горя глаза провалились…
Это сказал в тишине негромким печальным голосом солдат Звонарев, по прозвищу Звонарь, бледный, с вытянутым нездоровым лицом, на котором от забот и усталости пролегли тонкие преждевременные морщинки. Среди этих процарапанных линий, провалившихся щек, пороховых точек и мазков сажи сияли тихие голубые глаза, которыми он грустно и ясно обвел товарищей. Словно жалел их за ожесточение и очерствение душ, за единственную оставленную им свободу – убивать, умирать.
– Это что за каракатица слюнявая!.. – Клык изумленно посмотрел на Звонаря, посмевшего посягнуть на его превосходство. Замахнуться на его мудрость и первенство. Осудить перед товарищами в час его торжества. – Ты что, вонючих бородачей пожалел? Тех, кто пулю тебе в брюхо шлет? Кто твои кишки на кулак намотает? Выродков ихних жалеешь? Да они вырастут, к тебе в дом придут, твоих детей зарежут. Они кровной местью живут. Покуда их не выбьешь всех, до последнего грудного младенца, они тебя искать станут! И найдут, когда ты спать будешь!..
Клык был прав, солдаты с ним соглашались. С тех пор, как они оставили лагерь с брезентовыми шатрами, удобными землянками и вместительными окопами, с боевыми машинами, зарытыми в капониры, с банями, лазаретами и походными кухнями, с командирскими кунгами, над которыми поднимались штыри и сетки антенн, с тех пор, как ушли с черного, измятого колесами и гусеницами поля, похожего на пластилин, и стали вгрызаться в город, – в них, с каждой потерей и раной, нарастала ненависть к неутомимым чеченским стрелкам.
Пушкова неприятно задели слова Звонаря. Их неуместность была подобна музыкальному звуку, случайно возникшему среди визга и скрежете, как если бы кто-нибудь в клепальном цехе или у циркулярной пилы невзначай коснулся рояля. Чистый звук, печальный и искренний, взгляд голубых сострадающих глаз были помехой. Нарушали грубую простоту их солдатского праздника, которым они хотели укрепить себя перед боем.
– Мне людей жалко, домов жалко. Столько красивых домов разрушено. Люди их строили, украшали, мебель себе покупали. Хотели жить, семьи свои берегли. Ордена получали за хорошую работу. А теперь все горит…
Звонарь был один против всех. Навлекал на себя всеобщее раздражение. Возбуждал гнев Клыка, который тянулся к нему через коптилки, золоченые тарелки, объедки хлеба и сала. Хотел схватить за расстегнутый ворот, из которого тянулась худая длинная шея. Ударить в продолговатую голову с бледным лбом и чистыми голубыми глазами. Пушкова вдруг поразила их прозрачная чистота, незамутненная синева. Среди копоти, тусклой пыли, неверного колебания коптилок они одни сохранили цвет, похожий на тот, что бывает в вершинах мартовских голых берез.
– Ты что, с чеченами снюхался? У тебя родня – чечены? Может, перебежчиком станешь? В ихние банды наймешься? Может, ты ихнюю веру примешь!.. – Клык жарко дышал сквозь мокрые зубы, презирал, издевался. Его огромный кулак тянулся к Звонарю. Был готов толкнуть к стене с прислоненными гранатометами и «шмелями». – То-то я смотрю, ты воюешь, как таракан недомеренный!.. В небо стреляешь, в ямках отлеживаешься!.. Ты почему гранату не кинул, когда магазин брали? Я тебе крикнул: в подвал фанату! А ты, сука, не кинул! Может, чеченку с ребеночком углядел?.. А оттуда очередью Хрусталева достало!.. Ты, гнида, виноват в его смерти!.. Поезжай теперь к нему в деревню с гробом, матери его расскажи, как ты другу своему пулю добыл!..
Неудержимое и безумное колотилось в огромном теле Клыка, подымало его с ковра, заносило над головой Звонаря стиснутый тяжелый кулак.
– Отставить!.. – командирским рыком Пушков закупорил бешеную, клокотавшую в Клыке ярость. Заставил его шмякнуться на подушку. Сержант схватил бокал, жадно, с хлюпанием, выпил. И пока Клык пил, двигал жилами, кадыком, небритым подбородком, Звонарь смотрел на него сострадающими глазами. Не обижался, жалел. Пушков не умел разгадать причину этого сострадания, природу мартовского синего цвета.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

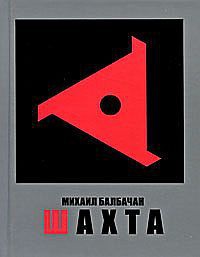



Комментарии