Эросипед и другие виньетки - Александр Жолковский Страница 29
Эросипед и другие виньетки - Александр Жолковский читать онлайн бесплатно
P. S. Игорь, с пятидесятилетием тебя. Прими и мою скромную главу и не обессудь, если что не так.
Когда в середине 50-х годов железный занавес слегка приоткрылся для контактов с иностранцами, советский человек стал (при всем своем скрытом, а то и явном расизме) смотреть на негра как на представителя западной цивилизации и был счастлив, если тот дарил ему шариковую ручку со стриптизом и даже без. Помню, как одна знакомая хвасталась, что рассчитывает достать дубленку у спекулянта, связанного со студентом-африканцем, который часто ездит в Европу и привозит дефицитные вещи. «Понятно, — сказал один из наших остряков. — Лиловый негр вам продает манто».
Занимаясь в 60-е годы языком сомали с сомалийскими студентами, я тоже как-то забывал, что передо мной, в сущности, бесписьменные недавние дикари, что у них кровная месть и что их национальный герой «Бешеный мулла» Ина Абдулла Хасан перебил (в 1920-м году) больше своих соотечественников, отказывавшихся его поддерживать, чем англичан, против которых он поднял восстание. Еще бы, ведь нейлоновую сорочку, которая легко стирается и быстро высыхает уже выглаженной (чудо бытовой химии 60-х годов), я впервые увидал у сомалийца Махмуда Дункаля. После урока (я был у него в общежитии МГУ) он собирался в город. Когда он снял ее в ванной с плечиков, на которых она сохла, и стал надевать, я только рот раскрыл.
Поэтому другое, тоже в своем роде первое, впечатление было не менее сильным. Наши занятия начались с того, что он объяснил мне, что его имя, Дункаль, значит «ядовитое дерево», а также «герой». Я сказал, что не вижу этимологической связи.
— Ну как же, — пояснил Дункаль, — «убивает много».
Надо сказать, что по линии сорочек мой первый учитель вовсе не выделялся среди своих соотечественников. Настоящим франтом среди них был высокий, аристократичный, красивый Ахмед Абди Хаши по прозвищу Хашаре («насекомое» — так его прозвали еще в школе за крайнюю худобу), одевавшийся исключительно в Лондоне; перед моими глазами до сих пор стоит его тонкой вязки зеленый мохеровый пуловер. В дальнейшем я работал с ним на радио, был в довольно приятельских отношениях, но никогда не мог отделаться от ощущения собственной неполноценности рядом с этим принцем.
Ахмед занимал высокое положение в организации сомалийских студентов, обучающихся в СССР, имел сведения об их жизни в других городах и часто рассказывал мне о ненависти, с которой приходилось сталкиваться африканцам. Конфликты происходили в основном на классической почве секса, ибо советские девушки по тем или иным причинам разделяли упомянутое выше преклонение перед иностранцами вообще и неграми в частности.
Однажды Ахмед должен был поехать в Баку, чтобы от имени африканских студентов участвовать в расследовании совершенного там убийства двух сомалийцев. Чтобы отвести от нашей передовой страны обвинение в расизме и линчевании негров, посягнувших на белую женщину, я стал говорить что-то в том смысле, что кавказцы дикий народ, ходят с ножами и готовы зарезать кого угодно, не только негра.
— Что ты мне объясняешь, — сказал Ахмед, сверкая белыми зубами, — я сам могу зарезать.
В дальнейшем, как мне говорили, Ахмед был одно время чуть ли не послом Сомали в ГДР, а затем занимал видное положение в сомалийском правительстве. Сравнительно недавно способность сомалийцев «резать» и иными способами «убивать много», увы, подтвердилась самым бесспорным образом на глазах у всего мира, убедительно доказав, что они ничем не хуже немцев, эфиопов, хуту, тутси, кхмеров, сербов, албанцев, чеченцев, русских и других представителей цивилизованного человечества.
Когда я учился в заочной аспирантуре Института восточных языков (ИВЯ) при МГУ (1963–1967), я проходил там только один курс — семинар по основам марксизма-ленинизма. Избранный мной язык сомали преподавать было некому, и его изучение было пущено на самотек, но о том, чтобы обойтись без марксизма в то время — да еще в институте, готовившем выездных переводчиков и шпионов, — нельзя было и помыслить. Впрочем, преподавался этот предмет спустя рукава. Семинар вел не старый еще, но уже утомленный высшим философским образованием бледный еврей (фамилии не помню). Одного взгляда на меня ему было достаточно, чтобы полностью освободить меня от посещения — с единственным условием: в конце семестра (года?) я должен был подать реферат на какую-нибудь философскую тему, связанную с моей, аспиранта-заочника, непосредственной научной практикой.
Я никогда не разделял модного среди моих друзей-филологов мнения, будто марксизм, ввиду своей ненаучности, логической противоречивости и лживой догматичности, не поддается изучению. Я полагал и полагаю, что, будучи тщательно разработанным словесным построением, своего рода атеистической мифологией, т. е., выражаясь по-тартуски, вторичной моделирующей системой, марксизм, в том числе догматический советский, являет законный объект для филологического освоения. Я всегда имел по марксизму отличные оценки и до сих пор благодарен советской системе образования за заложенные таким образом основы, по сей день позволяющие мне поддерживать непринужденные беседы с американскими коллегами на темы деконструкции и иных постмодерных веяний гуманитарной мысли.
В качестве профессионального материала для реферата я избрал широко дебатировавшуюся в наших структурных кругах теорию лингвистической относительности, известную также под названием гипотезы Сэпира-Уорфа. За марксистским ее осмыслением было недалеко ходить, ибо в официальном советском языкознании она постоянно подвергалась критике за релятивизм, подрыв категории объективной истины, а то и за сомнительное, американско-империалистическое, происхождение ее авторов, конкретные отдельные заслуги которых в описании индейских языков, впрочем, признавались — со сдержанным одобрением. В реферате наверняка можно было ограничиться простой констатацией такого положения дел, слегка пожурив буржуазных специалистов Эдварда Сэпира и Бенджамина Уорфа за их философскую недостаточность. Но интеллектуальное честолюбие и тайный диссидентский запал толкали меня на большее.
Начал я с постановки проблемы: как получается, что выдающиеся умы человечества, совершающие фундаментальные открытия в различных областях знания — Павлов, Эйнштейн, Бор, Сэпир и другие, — оказываются неспособны постичь очевидные философские истины марксистского учения, которое, по словам Ленина, «всесильно, ибо оно верно»? Так сказать, чего этим корифеям неясно, если башка у них вроде неплохо варит? За ответом я предлагал обратиться к классической работе того же Ленина «Что делать?».
Центральный тезис книги состоит в том, что коммунистическая идеология не может быть выработана пролетариатом самостоятельно, стихийно, путем естественного развития из задач экономической борьбы — как то утверждают западные социал-демократы либерального толка и их российские последователи. Она должна быть внесена в сознание рабочего класса извне, силами передовых идеологов-марксистов, отражающих подлинные, но, увы, не всегда отчетливо осознаваемые интересы этого класса. Для чего и требуется создание партии нового типа — партии профессиональных революционеров…
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
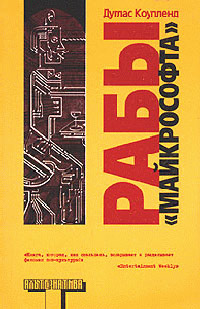


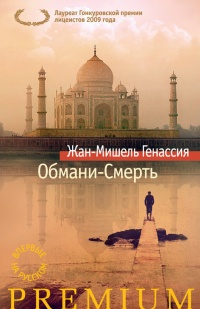
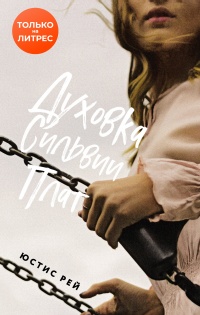
Комментарии