Свежо предание - Ирина Грекова Страница 29
Свежо предание - Ирина Грекова читать онлайн бесплатно
Костя обернулся. Лежавшего он знал — это был профессор консерватории, Леонтий Максимович. Как его скрутило! Еще два дня назад он ходил довольно бодрый, а теперь, видно, лег насовсем. «Прочно улегся», — как говорили в стационаре. Такие умирали.
Раздался тихий свист: пластинка опять заработала.
— Амброзия. Пища богов. Многое пришлось повидать, пока понял, что такое амброзия. А она всю жизнь здесь, под рукой лежала. Жалкие мы люди. Ничего не замечаем. Вот и здесь живем, а ничего не видим. Одни только мерзлые стены и окна забитые. А того не замечаем, что судьба дала нам новое, чудесное понимание. Только лови его. Душу хлеба видишь? Вот и лови. Не просто ешь хлеб, а с пониманием…
— Понимать-то мы и без тебя понимаем, — сказал дед-яга. — Сдохнем мы все здесь ни за малую копейку. Ноги стали пухнуть — готовь гроб. Али одеяло там какое. На санки — и в братскую. Вот тебе и понимание.
— Слабое рассуждение ограниченного человека, — просвистала пластинка.
Дед-яга ничего не ответил. Неужели Леонтию Максимовичу до того худо? Костя подошел, наклонился. При свете прыгающего маленького пламени единственное, что он ясно различил, была черная, подвижная, угловатая тень от носа, опахивавшая лицо лежавшего крылом летучей мыши. И все-таки можно было понять: этот человек умрет. Сегодня, в крайнем случае — завтра. Трудно сказать почему, но это было видно. Может быть, по какой-то придымленности черт и напряженности взгляда.
— Идете? — просипел голос.
— Иду.
— Возьмите мой шарф. Теплый.
На спинке кровати висел мохнатый шарф. Заграничный. Когда Леонтий Максимович еще ходил, он с этим шарфом не расставался. Теперь шарф висел праздно, страшно.
— Снял, не могу. Душит, — прошептал Леонтий Максимович. — Берите, Костя. Он теплый.
Костя не брал:
— Вы не понимаете, я иду далеко, в простреливаемый район. Могу не вернуться.
И вдруг Леонтий Максимович заговорил почти нормальным голосом:
— Ну, что же. Если вы не вернетесь, то, по сравнению с глубокой скорбью о вашей кончине, потеря шарфа покажется мне пустяком…
…Какой это, должно быть, был очаровательный человек в жизни!
Костя замотал шарф вокруг шеи левой рукой, неловко помогая правой. Долго возился, устанавливая шарф вертикальным щитком перед губами и носом. Особая, блокадная технология… Все на него глядели… Костя взялся за дверную ручку, собираясь с силами, чтобы нырнуть в мороз…
— Ни пуха ни пера, — сказал старик в ушанке.
…На лестнице он понял, что еще день. В общежитии стоял вечный сумрак — берегли тепло. Здесь, на лестнице, никто его не берег. Хлопала по ветру, неистово скрипя, выходная дверь, и окно щерилось висящими на бумаге, длинными, как сабля, осколками.
Спуститься по лестнице — целая задача. Ледяная гора. Бугристые, шишковатые наледи со вмерзшими в них нечистотами. На стене белел косо приклеенный лист. На нем печатными буквами было написано:
ТОВАРИЩ, ПОМНИ!
Жилец, разрушающий квартиру,
выбрасывающий нечистоты на лестницу,
приносит серьезный ущерб государству!
ВСЕ НА ОЧИСТКУ ГОРОДА!
Кое-как, цепляясь за перила, он спустился вниз. Новым было это нудное, обморочное чувство в ногах. И кроме того, что-то его не пускало… Что? Кажется, понял. Леонтий Максимович.
Леонтий Максимович умрет — сегодня или завтра. А ты идешь с двумя кусками — ну, ладно, не кусками, а кусочками — хлеба. Один кусок ты должен отдать ему. Один кусок амброзии.
— Но ведь у меня был вообще один кусок, — сказал Костя. — Я сам разломил его на два.
— Ну, и половину ты отдашь ему, — сказала Рора. Рора — богачка.
Костя даже пошатнулся — так ясно представил себе ее, Рору, как она стоит здесь на своих летящих ногах и колеблется где-то между улыбкой и горем. Он вздохнул и стал подниматься обратно по лестнице.
Двое стариков медленно повернули к нему фантастические головы.
— Дверь прикрой, раззява, выстудишь, — сказал старик в ушанке.
Костя прикрыл дверь, подошел к койке Леонтия Максимовича и прислушался. Было тихо.
— Уснул. Дай Бог, во сне отмается, — сказал старик в ушанке.
Костя вынул из кармана пакетик и положил у изголовья Леонтия Максимовича.
— Проснется, отдайте ему. Это хлеб.
— Не звери, — сказал дед-яга.
Наконец-то он на улице. И не так уж холодно. Пока форсировал лестницу взад и вперед, успел даже немного согреться.
Стреляют, но где-то далеко, не в нашем районе.
Ветер накинулся на него с каким-то остервенением. Костя приладил в левой руке веревку от санок и пошел. Он теперь всегда ходил с санями, даже с пустыми, все равно — с ними было легче, как будто он шел не один, а с собакой.
…Так же вот Циля, когда училась ходить, брала корзиночку, и ей было не так страшно…
Циля! Где она, Циля?
Циля — у немцев. Рора и Циля — у немцев. А он— здесь. Какое безумие!
Идти было далеко. Километров пять или больше. Кто ж их мерил, наши городские километры? Раньше не мерили — были трамваи, автобусы. Теперь нет трамваев, нет автобусов — снова никто не мерит.
Все равно, идти надо. А чтобы не таким долгим казался путь, можно думать. Вспоминать.
Он уже четвертый раз ходил отсюда за письмами и по опыту знал, что, если думать, голод не так чувствуется и путь кажется короче. Только нельзя позволять себе думать стихийно. Думать надо по плану. Каждый раз он намечал себе, о чем думать. Разумеется, не всегда выполнял, но в общих чертах — да. На сегодня у него заранее было намечено: думать о детстве, самом раннем; думать об институте; думать о Юре Нестерове.
Но вот — сегодняшний сон вмешался в эти планы. Волей-неволей придется думать об отце.
Отец. Папа. Когда-то он его ненавидел. Ненавидел — из верности. Будь она проклята, однобокая верность!
Надо было быть шире, не замыкаться в своей верности. Теперь уже не исправишь… Недаром он видел, как отец ел свое сердце…
Он ведь и умер от сердца. Если верить официальному свидетельству о смерти, причина — спазм коронарных сосудов. Может быть, и не так. Ведь и здесь, в Ленинграде, нельзя верить свидетельствам о смерти. Пишут: «сердечная слабость», «пневмония», «стенокардия», а на самом деле — голод.
Впрочем, отец не голодал. Его арестовали в тридцать седьмом году…
Ночью позвонила Валентина Михайловна.
— Костя, ради Бога, приходите скорей. Вы можете?
— Разумеется, сейчас приду.
Он уже все понял. Отец был крупный партийный работник. Член партии с одиннадцатого года. А на таких был форменный мор.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




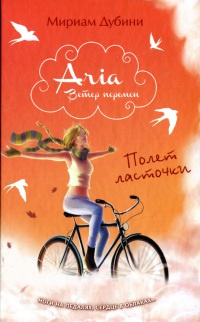
Комментарии