Эмиграция как литературный прием - Зиновий Зиник Страница 29
Эмиграция как литературный прием - Зиновий Зиник читать онлайн бесплатно
Из этого клубка ревности, цинизма и чувства неполноценности и приходится лепить нового героя. В эстетическом преодолении зла, таящегося в сердце каждого, кто добровольно покидает своих близких ради не сбыточных идеалов за рубежом, и заключается, мне кажется, смысл и суть литературы на родном языке вне родины. Ведь опыт раздвоенности — это еще и опыт того, кто, при всей своей отделенности от всего, мысленно — везде — понимает всякого и переживает за всех. Это и есть уникальность эмигрантской темы. Все остальное можно написать, не выходя за дверь родного дома.
В самом акте литературного творчества есть один аспект, неприемлемый для этического сознания. Всякое зло — временно, но литература, открывающая красоту (то есть добро) в злом аспекте бытия, продлевает этому злу срок жизни. Избавление от экспатриантского двурушничества, когда (и если) оно, как всякое зло на свете, становится невыносимым, возможно лишь с окончательным уходом из России — в другой язык, уходом из русской литературы. Так переходил на французский Беккет: это был уход от английского, от родного языка, которым он владел слишком хорошо и который он, поэтому, эстетизировал, делая приемлемым всё: унизительность, мучение и убожество его ирландского прошлого, от которого он этически отрекся.
Неправомерность подобного отречения в определенные моменты русской истории и имел в виду В. Ходасевич, когда неодобрительно отзывался о тех «эмигрантах, которые гордятся и радуются успехам молодых русских отщепенцев — на поприще иностранных литератур» («О задачах молодой литературы»). Эти слова были написаны до войны, когда Набоков был еще Сириным. Следует, однако, отдавать себе отчет, что переход на другой язык был продиктован у разных писателей совершенно разными обстоятельствами и разными мотивировками. Для Набокова, скажем, это был уход от языка страны, которая в его сознании умерла (Россия его детства и довоенные круги русской эмиграции). Конрад же (он, в отличие от Набокова или Беккета, в детские годы никак не был связан с английским языком) уходил из той литературы, которая для него никогда не существовала, но которая была навязана ему как графа в свидетельстве о рождении.
В своей жизни красноэмигранты уже перешли на другой язык, сменив круг общения. Мы обрели свободу от той России и той русской литературы, которая была для нас неприемлема. Не попали ли мы, однако, в новое рабство в не осознанной нами Европе? Ответа на этот вопрос у меня нет. Более того, ответ неважен. Я полагаю, сам вопрос и есть часть ответа в дилемме эмиграции. Я знаю, что мой опыт выпадения из российского настоящего уникален (всякая судьба — неповторима) и ждет своего литературного воплощения. Но уникальность опыта вовсе не залог большой литературы, которая коренится, скорее, в заурядном. Для литературного воплощения опыта необходим, как дыхание, новый стиль мышления.
Я подозреваю, что залог нового мышления лежит в иной, обратной (моему прошлому) перспективе: в осознании и приятии своего английского настоящего и круга английских, израильских и европейских друзей-знакомых за двадцать лет — не как загадочного сна, а как той самой вести, чью суть как религиозное откровение я и искал. Эти люди стали для меня тем, кем были в моей юности мои московские друзья, чьи реплики до сих пор звучат у меня в голове эхом к моему нынешнему английскому разговорному окружению.
В оглядке на эти оба эха и заключена, видимо, новая мелодия Орфея, возвращающегося к свету из советского подполья своего прошлого. Тот факт, что эти два эха не разделены больше железной стеной на земле и глушилками в эфире, позволяет надеяться, что новая мелодия будет понятна по обе стороны этого прошлого.
Выходишь из дома — подышать свежим воздухом. Возвращаешься. Дверь захлопнута, а ключ забыл внутри. Ты — бездомный.
Или вот, бывает, выходишь из дома — и едешь на курорт. Возвращаешься, а в доме такие перемены, что чувствуешь себя в гостях. Ты уже не у себя дома.
А бывает еще, выходишь из дома — и загулял, влюбился. Возвращаешься, а тебя никто не узнает. У тебя другой дом.
* * *
Вчитываясь в поэтический сборник Леонида Иоффе «Короткое метро» [12], понимаешь, что ты становишься свидетелем неявного и зачастую ненамеренного диалога двух поэтов, один из которых в эпоху третьей волны эмиграции остался в России, а другой ее покинул. Этот диалог переполнен дихотомиями о чуждости, ведущей к разговору, и о родственности, обрекающей на молчание. Дело в том, что этот сборник — некий портрет поэта, составленный из мозаики его стихов еще одним поэтом, нашим общим другом и давним эпистолярным собеседником, Михаилом Айзенбергом. Когда сразу за стихами Иоффе начинаешь перелистывать сборник Айзенберга «За Красными воротами», изданный за год до этого в том же издательстве, и наталкиваешься на строчку «Я так тихо жил, что не знал отказа», слово «отказ» тут неожиданно прочитывается в рамках отъездной эпики, в смысле «отказников» той эпохи, как бы переводя ложно понятую личную робость в эпический план.
Я говорю о «ложно понятой» робости потому, что это был «не страх смерти, а сознание безрезультатности наилучших намерений и достижений, и наилучших ручательств, и вытекающее из этого стремление избегать наивности и идти по правильной дороге с тем, чтобы если уже чему-нибудь пропадать, то чтобы погибало безошибочное, чтобы оно гибло не по вине твоей ошибки» (я цитирую письмо Пастернака о его попытке вырваться из морализаторской трясины своего времени). Это не поиск окончательной истины. Это отказ от всего, что обозначается в жизни как ложь и двусмысленность, и уход от этой двусмысленности — зачастую в никуда.
Сейчас можно сказать, что робости не было ни в той, ни в другой позиции по отношению к отъезду-неотъезду: любая из альтернатив той эпохи свидетельствовала об уходе в той или иной форме — об отказе от собственного прошлого, точнее — от настоящего, которое перестало осознаваться как свое из-за навязанности некоторой версии общего прошлого. В группе поэтов (и математиков) Леонида Иоффе и Евгения Сабурова, к которой примкнул Айзенберг, эта отчужденность от общего языка и общих идей выражалась чисто эстетически — как поза, в почти панковской, мужской, брутальной непричесанности и одновременно ритуальности поэтического застолья на «субботах» у Владимира Шахновского, куда в 60-е годы захаживали многие — от Шлёнова до Лимонова, но где главными орудиями поэтического мастерства, вне непосредственной читки и разбора поэзии, была водки и папиросы «Беломор», мат, флирт с девушками и разговоры о футболе. «Жить от вечера до вечера, от стакана до вина…» [13]
Лишь сейчас ясно, в какой степени эта группа была вне всякого общепринятого литературного общения тех лет, не только потому, что не включалась в традиционную российскую конфронтацию пропагандистской и диссидентской литератур, но и потому что по своему темпераменту, замашкам, какой-то морально-ригористической позе в этой духовной толкучке эти поэты были склонны к некому эстетическому авторитаризму, к поискам своего словаря вдали от ежедневного шумового фона, к поискам истины и красоты в несуществовавшем измерении, в некоей примысленной, почти выдуманной, «классической традиции», в их «серебряном» веке русской поэзии. Это было сочинительство фиктивного прошлого для противостояния фикции настоящего. Из реальных имен — от Баратынского до Мандельштама — создавался, путем селекции отдельных стихотворений, идеальный образ никогда не существовавшего классика. Этот классический канон был взорван изнутри и ненормативным словарем, и затрудненностью синтаксиса, и ритмическими синкопами.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
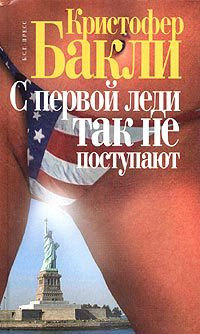




Комментарии