Качели дыхания - Герта Мюллер Страница 29
Качели дыхания - Герта Мюллер читать онлайн бесплатно
Она смеется:
— Ты не один, у тебя есть я.
— Ты можешь умереть, а Мопи — нет.
В легком похрапывании доходяг, которые уже не ходят на танцы, я слышу свой детский голос. Он такой бархатистый, что мне страшно. Всего только набитая опилками игрушка из ткани, а как ласково ее называют: ПЛЮШЕВАЯ СОБАЧКА Теперь в лагере я слышу разве что ЗАТКНИСЬ, СУКА — слова, за которыми следует молчание из страха. А еще на русском можно СОБАЧИТЬСЯ ИЗ-ЗА ЕДЫ. Но сейчас мне не хочется думать о еде. Я ныряю в сон и смотрю его.
На белой свинье я проскакал по небу к дому. Сверху наш край легко узнаваем, его контуры соответствуют действительности, они даже обведены заборами. Однако повсюду стоят бесхозные чемоданы, а между ними пасутся бесхозные овцы. У них на шеях висят еловые шишки, звенящие как колокольчики. Я сказал:
— Это большая овчарня с чемоданами или большой вокзал с овцами. Тут никто больше не живет, куда мне теперь податься?
Ангел голода видит меня с неба и говорит:
— Скачи обратно.
Я в ответ:
— Но ведь тогда я умру.
— Как станешь умирать, я сделаю все вокруг оранжевым, и тебе не будет больно, — обещает Ангел голода.
Я скачу обратно, и он одерживает слово. Пока я умираю, небо над всеми сторожевыми вышками оранжевое, и мне не больно.
Потом я просыпаюсь и подушкой вытираю уголки рта. В этих уголках по ночам любят скапливаться клопы.
Шлакоблоки — стеновые камни, их делают из шлака, цемента и известкового молока. Все это перемешивается в бетономешалке и прессуется ручным прессом. Кирпичный завод находился за коксовым цехом, по другую сторону ямы, рядом с терриконами. Там было достаточно места, чтобы сушить тысячи только что спрессованных камней. Они лежали на земле тесными рядами, как надгробные камни на военном кладбище. Там, где на площадке были ухабы или рытвины, ряды изгибались волнами. Но и помимо того каждый из нас клал свой камень чуть по-другому. Подносили камни на дощечке, держа ее двумя руками. От множества мокрых камней дощечки разбухли, потрескались и стали дырявыми.
Переноска камней превращалась в долгую балансировку на сорока метрах пути от пресса до места сушки. Поскольку все балансировали по-разному, ряды получались кривыми. К тому же и путь с каждым уложенным камнем изменялся: вел в начало, в конец или в середину ряда, если какой-нибудь неудавшийся шлакоблок подлежал замене либо если оставался пропуск в ряду, уложенном вчера.
Свежепрессованный камень весил десять килограмм, он крошился, словно сырой песок. Дощечку приходилось нести перед животом — приплясывая, чтобы скоординировать движения стопы с положением языка, плеч, локтей, бедер, живота и колен. Эти десять килограмм камнем еще не стали, они не должны были заметить, что их несут. Их следовало перехитрить, равномерно и волнообразно покачивая, чтобы они не тряслись, а потом на сушильной площадке одним махом столкнуть с дощечки. Столкнуть быстро и плавно, чтобы эти камни мягко упали на землю без малейшего потрясения, гладко и испуганно соскользнув. Для этого нужно напружинить колени и присесть, чтобы дощечка оказалась под подбородком, а затем растопырить локти наподобие крыльев и дать камню сползти прямо на предназначенное для него место. Только так он может поместиться между другими теснящимися камнями, не повредив ни своих, ни их граней. Один неверный наклон в переплясе — и камень осыпется, станет кучкой грязи.
От переноски и особенно от укладывания сводило все лицо. Изо рта высовывался негнущийся язык, а глаза неподвижно смотрели в одну точку. Если что-то не выходило, нельзя было даже выругаться от злости. После каждой шлакоблочной смены наши глаза и губы, цепенея, становились четырехугольными, как камни. Цемент и здесь тоже играл свою роль. Взвиваясь, он парил в воздухе. К нам, к бетономешалке и к прессу прилипало больше цемента, чем шло в шлакоблоки. При прессовании первым делом в пресс-форму клали дощечку для каждого камня. После накладывали лопатой смесь и прижимали ее, опуская рычаг пресса, пока камень вместе с дощечкой не выпирал кверху. Только тогда следовало взяться за дощечку с двух сторон и нести ее, приплясывая и балансируя, к сушильной площадке.
Шлакоблоки прессовали день и ночь. В утренние часы пресс-форма была еще холодной и росистой, наши ноги ступали легко и солнце пока не касалось сушильной площадки. На вершинах терриконов оно уже пылало. К середине дня жара становилась невыносимой. Ноги отказывались идти ровным шагом, в икрах дергался каждый нерв, колени дрожали, пальцы рук немели. Теперь при укладке камней язык уже не помогал балансировать. Было много брака, на наши спины сыпались удары. Вечером прожектор бросал конус света в пространство этой сцены: в слепящем свете стояли бетономешалка и пресс, будто покрытые мехом, а вокруг реяли мотыльки. Они летели не только на свет — запах влажной смеси их приманивал, как аромат ночных цветов. Хотя сушильная площадка тонула в полутьме, мотыльки тыкались в камни своими хоботками и усиками. И на камни, которые мы подносили, они тоже садились, мешая нам балансировать. Мы глядели на их головы со щетинками, на ободки вокруг брюшка, вслушивались в шорох крыльев — и камень словно оживал. Иногда прилетали сразу два-три мотылька — они будто выпархивали изнутри камня. Казалось, что влажная смесь на дощечке состоит не из шлака, цемента и известкового молока, а из спрессованных в кирпич комочков-куколок и они становятся мотыльками. Мотыльки позволяли, чтобы мы несли их от пресса до сушильной площадки, из освещенного пространства — в многослойность теней. Эти тени были скошенными и опасными, они искривляли контуры блоков и искажали прогалы между рядами. Камень на дощечке уже и сам не знал, как он выглядит. И мы действовали неуверенно: боялись спутать грани камня с изломами теней. Огоньки, мерцающие на терриконах, еще больше усиливали обманчивую игру теней. Во многих местах терриконы тлели — и мигали желтыми глазками, словно ночные животные, которые излучают особый свет и освещают или сжигают свою бессонницу. Вспыхивающие глаза терриконов едко пахли серой.
Под утро холодало, небо отсвечивало молочным стеклом. Ноги — так, по крайней мере, казалось — ступали теперь легче; конец смены приближался, и хотелось забыть, как сильно мы устали. Прожектор тоже уставал: он занавешивался дневным светом и бледнел. Над нашим ненастоящим военным кладбищем расстилался теперь голубой воздух, равномерно накрывая все ряды, все камни. И в этом ощущалась затаенная справедливость — единственная, какая здесь может быть.
Хорошо шлакоблокам, а у наших мертвых — ни рядов, ни камней. Лучше об этом не думать, иначе в последующие дни и ночи мы не сумеем ни приплясывать, ни балансировать. Стоит только задуматься о чем-то подобном, и будет много брака, на наши спины посыплются удары.
Это было время «мешков с костями», время извечного капустного супа. Капуста утром, когда встаешь, и капуста вечером, после плаца. КАПУСТА — так по-русски называется овощ, но в русском капустном супе чаще всего вообще никаких овощей не было. В отрыве от русского языка и в отрыве от супа слово «капуста» включает в себя две вещи, ничем, кроме этого слова, между собой не связанные. КАП означает у румын «голова», ПУСТА — венгерская «низменность». Однако думаешь это на немецком, а лагерь все равно русский, как и капустный суп. Подобной бессмыслицей ты хочешь себя перехитрить. Однако слово КАПУСТА, даже если оно разделено, не пригодно как голодное слово. Голодные слова являются своего рода географической картой, только вместо названий стран в голову проникают наименования разных блюд: свадебный суп, котлеты, ребрышки, свиная ножка, заячье жаркое, печеночные фрикадельки, окорок косули, заяц с кисло-сладкой подливой и так далее.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

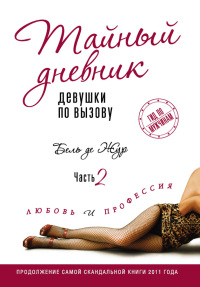
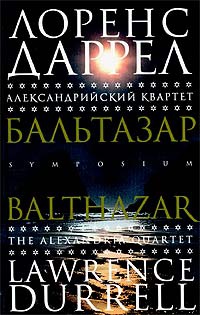


Комментарии