Мое столетие - Гюнтер Грасс Страница 28
Мое столетие - Гюнтер Грасс читать онлайн бесплатно
Нет, на Сильте жертв не было. Но шестнадцать метров западного берега смыло в море. И даже на удаленной от моря части острова говорилось, что земля стоит под водой. Что залит клип Кейтум, что вода подступает к Листу и Хёрнуму, что по Гинденбурговой насыпи не может теперь пройти ни один поезд.
Когда сила ветра пошла на убыль, мы решили осмотреть результаты. Мы хотели написать об этом. Нас этому учили. Это было нашей специальностью. Впрочем, когда война подошла к концу, когда если и было о чем писать, то лишь о потерях и убытках, спрос существовал — и так до самого конца — лишь на призывы выдержать. Я, правда, писал о нескончаемых обозах беженцев из Восточной Пруссии, которые хотели из Хайлигенбойля через замерзший залив достичь Свежей косы, но никто, никакой «Сигнал» не пожелал опубликовать мои трагические отчеты. Я видел пароходы, перегруженные гражданским населением, ранеными, партийными бонзами, когда они отваливали от Данциг-Нойфарвассер, видел пароход «Вильгельм Густлов» за три дня до того, как он пошел ко дну. Об этом я не написал ни слова. А когда весь Данциг стоял в огне, видном издалека, у меня тоже не вышла из-под пера взывающая к небу элегия, нет, я пробивался вперед среди рассеявшихся солдат и гражданских беженцев к устью Вислы. Я видел, как вывозили концлагерь Штутхоф, как заключенных, коль скоро им удалось пережить пеший марш до Никельсвальде, загоняли на паромы, с паромов — на суда, стоявшие на якоре у речного устья. Никакой прозы ужасов, никакой разогретой по второму разу гибели богов. Я все это видел и ничего об этом не написал.
Я видел, как складывали штабелями и потом сжигали трупы в оставленном концлагере, я видел, как беженцы из Эльбинга и Тигенхофа со всем своим скарбом занимали опустевшие бараки. Но вот охранников я больше не видел. Потом пришли польские сельскохозяйственные рабочие. Изредка бараки грабили. И все еще шли бои. Потому что предмостье в устье Вислы продержалось до мая.
И все это при отменной весенней погоде. Я лежал между прибрежными соснами, грелся на солнышке, но не запечатлевал на бумаге ни единой строчки, хотя беды всех, кто там был, и крестьянки из Мазуров, потерявшей своих детей, и престарелой четы из Фрауенбурга, которой довелось сюда пробиться, и польского профессора, одного из немногих выживших заключенных, звучали у меня в ушах. Описывать такое я не выучился. Тут мне недоставало слов. И тогда я научился умолчанию. Мне удалось уйти на одном из последних каботажных сторожевых судов, которое взяло курс из Шивенхорста на запад и, несмотря на налеты пикирующих бомбардировщиков, сумело второго мая достичь Травемюнде.
А теперь я стоял среди тех, кто спасся точно так же, кто подобно вашему покорному слуге был выучен писать только про атаки и победы, замалчивая все остальное. Я пытался, как это делали другие, записывать ущерб, нанесенный ураганом острову Сильт, а записывая, слышал жалобы пострадавших. А что нам еще оставалось делать? В конце концов, наш брат живет с репортажей.
На другой день наша кучка начала рассыпаться на куски. Асы из бывших и без того с первого дня обитали в массивных прибрежных виллах островной знати.
В завершение встречи я мог наблюдать при морозно летней зимней погоде неописуемой красоты закат.
Потом, когда железная дорога возобновила работу, я покинул остров по Гинденбурговой насыпи… Нет, встречаться мы позже никогда не встречались.
Очередной репортаж я написал далеко отсюда, в Алжире, где после семи лет непрекращающейся бойни война, которую вела Франция, лежала при последнем издыхании, но все никак не желала закончиться. Да и что это значит: мир? Для нашего брата война так никогда и не кончалась.
Кирпичная крошка, в воздухе, в одежде, между зубами и мало ли еще где. Но мы, женщины, на это ноль внимания. Главное, что наконец кончилась война. А нынче они даже хотят поставить памятник в нашу честь. Ей-богу, хотят. Даже существует такая гражданская инициатива: берлинские разборщицы развалин! Но вот когда повсюду торчали лишь остовы домов, а между протоптанными тропками лежали горы строительного мусора, нам платили 61 пфенниг в час, я еще это не забыла. Зато улучшенная продовольственная карточка, номер два, короче, рабочая карточка. Потому что домохозяйкам полагалось по 300 граммов хлеба ежедневно и по семь граммов жира. Вот и скажите мне, что можно сделать с такой жалкой кляксой.
Работа была нелегкая — разбирать развалины. И не с Лоттой на пару — Лотта это моя дочь, — нет, мы работали целой колонной: Берлин Центр, а там почти все сровняли с землей. Лотта тоже все время здесь была. С коляской. Мальчишку у ней звали Феликс, но он подцепил туберкулез, думается, от этой кирпичной пыли. Он уже в сорок седьмом помер, еще до того, как ее муж воротился из плена. Вообще-то они почти и не знали друг друга. Это была военная свадьба с заочным венчанием, потому как он тогда воевал на Балканах, а потом на Восточном фронте. Да и не долго он продержался, этот брак. Потому что они были внутренне чужие люди. И помогать он ни грамма не хотел, даже носить чурбаки для печки из Тиргартена — и то нет. А хотел он только лежать на кровати, уставившись в потолок. Сдается мне, он много нехорошего навидался в России. И все причитал, словно для нас, женщин, ночные бомбежки были сплошное удовольствие. Только причитаниями ведь делу не поможешь. Вот мы поплевали на руки и взялись: лезь в развалины, вылезай из развалин! Иногда мы разбирали разбомбленные чердаки или целые этажи. Осколки в ведро, а с полным ведром да с шестого этажа своим ходом, потому что транспортера у нас тогда не было.
А один раз — как сейчас помню — мы шуровали в полуразрушенной квартире. Там ничего не осталось, только клочья обоев свисали со стены. Но Лотта нарыла в одном углу плюшевого мишку. Он был весь в пыли, пока она его хорошенько не выбила. А потом он стал выглядеть как новенький. Но только мы все себя спрашивали, а что стало с тем ребенком, которому принадлежал мишка. И ни одна из нашей бригады не пожелала его взять, пока Лотта не решила отнести медведя своему Феликсу, потому как малыш тогда еще был жив. Но по большей части мы насыпали кирпичную крошку в вагонетки или сбивали остатки штукатурки с уцелевших кирпичей. Россыпь мы поначалу сбрасывали в бомбовые воронки, позднее отвозили на грузовиках к насыпной горе, которая тем временем вся покрылась зеленью и очень даже красиво выглядела.
Точно, точно, целые кирпичи мы складывали в пирамидку. Мы обе, Лотта и я, работали сдельно: на очистке кирпичей. Лихая у нас была бригада. Женщины, к примеру, которые явно повидали на своем веку лучшие дни, вдовы чиновников, а одна так и вовсе графиня. Я до сих пор помню: ее звали фон Тюркхейм. У ней раньше, по-моему, были земли на востоке. А ка-ак мы выглядели! Штаны из старых армейских одеял, пуловеры из шерстяных оческов. И все в платках, туго обвязанных вокруг головы. Из-за пыли. И было нас в Берлине до пятидесяти тысяч. Нет, нет, все сплошь женщины, мужчин не было. Их и вообще было слишком мало. А которые и были, только болтались без дела, либо суетились на черном рынке. Грязная работа — это не для них.
Но как-то раз — до сих пор помню — пошли мы к такой горе, чтобы вызволить из нее железную балку, и вдруг я ухватила чей-то башмак. В самом деле, там висел какой-то мужчина. Ну, конечно, от него немного осталось, но повязка на рукаве его пальто дала нам
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
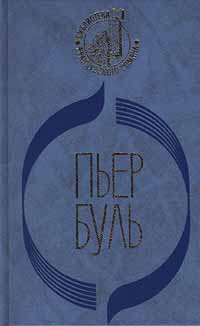
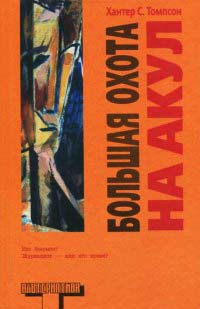

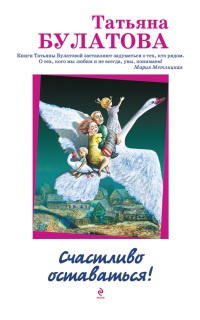

Комментарии